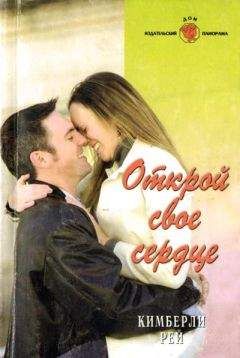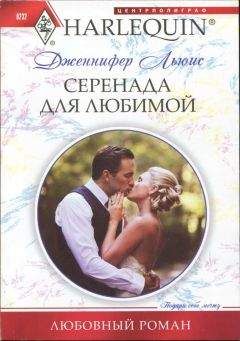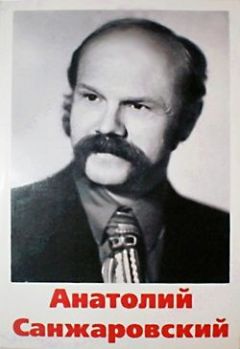Дэвид Духовны - Брыки F*cking Дент
– На мосты? А что там?
– Нет, «намасте» – это на санскрите означает «мир», по-йогически «будь здоров – паси коров, конец связи».
– Я знаю. – Ни хера Тед не знал. – Я шутканул.
– Вам помочь?
Теду не удалось бы взяться за протянутую руку, даже если бы он захотел. Его заклинило от шеи до пят.
– Нет, я еще не закончил. Еще часок-другой прихвачу. Я уж как возьмусь за йогу, так мне все мало.
Мариана собрала вещи:
– Ладно, потом пять минут шавасаны сделайте в конце, поза трупа.
– Думаю, одолею.
– И произнесите «ом-шанти-шанти», когда закончите, хорошо?
– Есть контакт. В смысле, нама, ну то есть нама-нама-рама-лама-дин-дон…
Мариана улыбнулась:
– Намасте.
– Точно.
Тед сверкнул ей улыбкой, которая на самом деле была переодетой гримасой. Услыхав, как за Марианой хлопнула дверь, Тед взвыл от боли и рухнул на бок, не в силах расцепить лодыжки. Он походил на черепаху, уложенную пузом кверху. Он взялся за щиколотки, потянул их, но вырвать их из пут лотоса не смог. Пробудившись от Тедова звериного скулежа, приковылял Марти. Глянул на Теда, прищурился:
– Ты опять укурился?
– Пап, дай руку.
– Последил бы за легкими.
– Помоги мне.
– Как?
– Пни меня.
– Куда?
– Под зад.
– Ты хочешь, чтобы я пнул тебя под зад?
– Умоляю.
– Ну наконец-то.
Марти подобрался к Теду, двинул ему по заднице, и ноги у Теда наконец расплелись. Но пытка не завершилась. Ноги у Теда от двадцатиминутной неподвижности так затекли, что он не смог их выпрямить, и всякий раз, когда пытался встать, поясницу сводило судорогами и Тед валился на пол. Его скрутило, как Хитрого Дика Никсона, и смахивал он на Квазимодо, которого безуспешно учат кататься на роликах.
– Какая прелесть, – сказал Марти. – У тебя прямо дар к коверной клоунаде.
Тед наконец выпрямился и попробовал походить, однако ноги не гнулись, как у мумии, руки-палки хватались за кресло Марти – чистый Франкенштейн в исполнении Бориса Карлоффа[178]; Тед пытался нащупать равновесие. Марти отошел на несколько дюймов.
– Это уже чересчур. Это уже не Питер Селлерз, а Джерри Льюис[179]. Ты меня передразниваешь, Тед?
– Нет.
Но Марти ему не поверил – решил, что Тед насмехается над его немощью, над старческой походкой. Марти убрел в другую комнату.
– Говнюк, – сказал он на прощанье, и тут ноги, будто наделенные своим умом, Теду отказали. Он тяжко рухнул, и мебель в доме содрогнулась. Марти, не сомневаясь, что это все еще издевка над ним, проорал из соседней комнаты: – Очень смешно, говнюк. Погоди – сам состаришься.
Тед подумал, что лучше всего сейчас просто лежать на полу и ждать, пока отпустит. Он осторожно перекатился на спину и, словно умирающий таракан, задергал лапками, мимолетно подумав о «Превращении» Кафки, после чего по телу туда и сюда электрическими волнами забегало трупное окоченение, а Тед запел:
– Ом-шанти-шанти… ом-шанти… ебте.
30
На следующее утро Тед проснулся спозаранку, все связки – в ужасе, с единственной мыслью в голове: сбрею нахер эту бороду. С такой затеей, впрочем, все шло небыстро: борода была нечесаная и густая, и росла она лет пять. Сначала пришлось обрубить ее кухонными ножницами и лишь затем подступаться с бритвой. А когда дело дошло до бритвы, оказалось, что ничего, кроме смертоносного оружия – бритвы Марти с одним лезвием – в доме нет. Теду еще повезло не зацепить вену, однако не успел он разобраться и с половиной бороды, лицо его уже укрылось крапинами туалетной бумаги – унять кровотечения. Марти проступил в зеркале позади Теда, как привидение из фильмов ужасов. Тед вдруг узрел у себя за плечом этот образ: отец в красном купальном чепчике с символикой бостонских «Красных носков», облегающем череп как вторая кожа.
– Бреется ради дамы сердца, – сказал Марти.
– Что? Где ты взял эту бритву, пап? У деревенского кузнеца? Сколько лет этой херовине?
– Час йоги – и Заноза уже как форель на крючке.
– Не зови меня Занозой.
– Это ж твой тезка. Тед Уильямс, также именуемый Замечательной Занозой. Ты – просто заноза, не замечательная.
– Я знаю. Странная кличка.
– Любовная. Это я тебе угождаю. «Заноза бреется для дамы сердца» – это угожденье.
– Ты чуешь разницу между «угодить» и «угадить»?
– Конечно, нет. Ты чуешь разницу между «пошел» и «нахуй»?
– Хватит. Ни для какой дамы я не бреюсь, просто надоело. – Тед показал на заметную седину в настриженной кучке на полу: – Представляешь, сколько анг лосаксовости у меня в бороде?
Но Марти так запросто со следа не собьешь. Он лишь улыбался да кивал.
– Если Заноза еще и эти свои идиотские хипповские лохмы отстрижет, тогда Заноза точно не жилец. Я помню Занозу, когда у него даже под мышками волос не было.
– Брось вот это третье лицо.
– Ты не видал мою купальную шапочку?
– Она у тебя на голове.
– Бля, точно. А я ее уже час ищу.
– На что вам чепчик, Капитан? Собираетесь на бобслей или как?
– Когда «Носки» дают зевка, я иду плавать в «Уа й»[180]. Смыть грехи их. Заноза не желает присоединиться?
– А есть ли у Занозы выбор?
– У Занозы нет. Заноза обязан отвезти отца.
– А, но у Занозы нет плавательного костюма.
– Я тебе одолжу свои старые «спидо».
– Как мило. Занозе пиздец.
31
Старый «Уа й» – чисто машина времени. Минуешь входные двери – и оказываешься в конце 1950-х – начале 1960-х. По столько лет тут все работали, и так давно последний раз меняли оборудование. Та же громадная старуха Пёрл проверяла документы. Пёрл трудилась здесь с тех еще пор, когда Тед был мальчишкой. На глаз в ней было четыре фута одиннадцать дюймов и 250 стоунов веса, как у спятившей тети Би из Мейберри[181], но стоймя Тед ее никогда не видел. Эдакий сидячий кентавр – наполовину еврейская старушка, наполовину стул. Ни от кого и ни от чего не пахло, как от нее. Опороченный мускус, головокружительное силовое поле задохнувшейся нейлоновой ластовицы, капусты и кофе – словно духи, набрызганные поверх того места, куда духи уходят умирать. Когда Тед с друзьями подросли, они стали звать ее Эрл Пёрл, в честь великого баскетболиста Эрла Пёрла Монро[182], также именуемого Черным Иисусом. Тед отродясь не видывал, как не-великая Пёрл двигалась-то, – какое там крутилась и металась, как ее тезка, – но не видывал Тед, и чтоб кто-нибудь проскочил мимо Пёрл. Она была первозданной недвижимостью. Свирепой. Медузой бородавчатой, древнееврейским Цербером в хламиде и с местечковым акцентом – проверяла членские карточки.
– Эрл Пёрл, как ваше ничего, мамаша? – почтительно прошептал Тед, когда они с отцом проходили мимо.
– Карточку, – потребовала она.
– Ой, да ладно вам вредину-то включать, – отозвался Тед с нежностью и показал карточку Марти.
И в раздевалке, и в спортзале все было столь же неизменно. Тед миновал древнюю сауну, куда его когда-то приводил отец, – Марти усаживался и балагурил с другими мужчинами, голыми в сухом жаре. Тед помнил потрясение от размера и отвисания мошонок у стариков, когда те сидели, не запахнувшись в полотенца, и старательно пытались не вырубиться от перегрева. «А моя тоже так отвиснет? Хочу ли я этого?» – помнится, думал он.
Были здесь и «физкультурные» машины, воздействовавшие только на жирные части тела. Вибрационный пояс с системой ремней, обвивавших талию; если такую машину включить, она сжимала физкультурника в судорожных объятиях и принуждала его к ускоренной версии твиста – и сим, как предполагалось, избавляла его от лишних фунтов в талии. Был и здоровенный деревянный ролик от жира, который крутился на манер гриля, а штыри, которыми он был утыкан и на которые надо было садиться, по идее, изводили и разминали в ничто жир на жопе. Прямо дитя Джо Уидера и Руба Голдберга. Отменное чувство юмора было у Джека Лалэйна[183], похоже.
Тед переоделся в отцовы «спидо». Эластан из них уже почти весь вышел, хлорка, будто химическая моль, проела мелкие дырочки и превратила их практически в сетку, и шнурком единым, ныне – от старого ботинка, спасался Тед от обнажения перед семидесятилетними.
В воде все тоже было не злободневным. Марти направился к дорожке с надписью «медленная», но «медленная» здесь – слово дерзновения. Восьмидесятилетние на этой дорожке казались недвижимыми, их качало приливом из стороны в сторону, как человекоподобных медуз. «Умеренная» дорожка была по любым понятиям «медленной», а «быстрая», как ни странно, – медленнее «умеренной». Тед выбрал «быструю», поскольку первый и единственный раз в жизни мог себе это позволить. Подумал, что стоило бы уже присоединиться к старческому сообществу: вот где он преуспел бы как физкультурник. Вот где вершины-то.
Слушаясь надписи «Без шапочек не плавать», Тед нацепил одолженную у Марти красную шапочку «Носков». В ней он смахивал на сердитый сперматозоид. Макнул пальцы ноги в воду. Холодрыга, бля. Вспомнил, как его прабабушка Бакка «моржевала» на Кони-Айленде – была из тех стародавних восточных европейцев, что посреди бруклинской зимы дружно плавали в ледяных атлантических волнах нового мира. Она вместе со стайкой других таких же крепышей-поляков и русских сходила по мосткам в едва ли не замерзшую воду. «Привыкаешь», – говаривали они. Так же они могли говорить и о житейских страданиях в целом – привыкаешь. Железная была публика. И вероятно, коллективно чокнутая. Ныне Тед бесстрашие Бакки перед обморожением чтил, но когда был ребенком и слышал, что прабабушка – морж, Тед представлял себе настоящего громадного серого и довольно опасного зверя, а сухонькую старушонку в четыре фута десять дюймов роста, что совала ему в ладонь долларовую бумажку при всякой встрече, считал оборотнем. Рассказал он об этом лишь самым близким друзьям, в третьем классе.