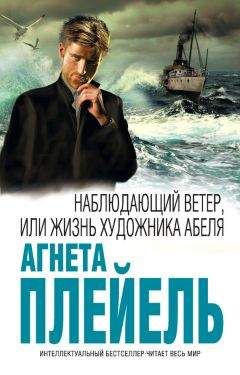Айрис Мердок - Море, море
Разумеется, мы держали все это в тайне. Одноклассники привыкли к нашей веселой дружбе. А потом мы затаились, притворялись равнодушными, придумали тайные места для встреч. Все это было подсказано инстинктом, не обсуждалось и не решалось. Мы должны были прятать свое сокровище, чтобы его как-нибудь не повредили, не высмеяли, не осквернили. Мои родители, конечно, знали, кто такая Хартли, но у нас она почти не бывала, они так не любили, чтобы кто-нибудь приходил к нам в гости, да и я этого не предлагал. О моем особом интересе к ней они не подозревали, считая, что в моем возрасте никаких особых интересов быть не может. Ее родители, знавшие о моем сущесвовании, тоже нами не интересовались, впрочем, я им, кажется, не нравился. Был у нее старший брат, тот презирал нас обоих. Наш мир оставался замкнутым и тайным. Родителей мы успеем оповестить позже, когда поженимся, а поженимся мы непременно, когда нам исполнится восемнадцать лет. (Мы были ровесниками.) Мы целовались, но дальше этого не заходили. Не забудьте, дело было давно.
Попробую описать Хартли. О моя милая, как ясно я тебя вижу. Именно вижу, а не воображаю. Свет в пещере – не огонь, а свет дня. Может, это единственный свет в моей жизни, тот, что озаряет истину. Немудрено, что я боялся потерять его и навсегда остаться во мраке. Тут слились все слепые детские страхи, так рано внушенные мне матерью: не поцелует, унесет свечу. Хартли, моя Хартли. Да, я вижу ее как сейчас, прыжки в высоту, веревку поднимают все выше, а она все перелетает через нее, и зрители каждый раз вздыхают с сочувственным облегчением, а я изнемогаю от тайной гордости. Она была чемпионкой по прыжкам в своей школе, во многих школах, и по бегу тоже. Хартли всегда занимала первое место, а я кричал «ура» вместе со всеми и смеялся от сокровенной радости. Хартли. Все затаили дыхание, вот она присела на параллельных брусьях, блестят ее голые ляжки. Учитель гимнастики поговаривает об Олимпийских играх.
«О Дух Святой, на нас сойди, огнем небесным освети…» Мы вместе конфирмовались, наша любовь приняла благословение свыше. Помню, как Хартли пела в церкви, подняв свое ясное, невинное, прелестное лицо к свету, к Богу, к той радости, которая, она знала, принадлежит ей по праву. Мы много говорили о религии (как и обо всем на свете) и чувствовали, что мы – избранные и любовь охраняет нас. Мы ощущали свою невинность и думали, что всегда быть хорошими не составит труда. Я помню восхитительный смех Хартли, но не помню, чтобы мы поддразнивали друг друга или много шутили. Наше счастье было торжественно, свято, и мы сторонились грубоватой болтовни одноклассников. Вопросы пола, мне кажется, не вызывали у нас любопытства. Мы были одно, и только это имело значение. Мы жили в раю. Мы уносились на велосипедах и лежали в лугах среди лютиков, у железнодорожных мостов, на берегу каналов, на пустырях, ожидающих застройки. Наша сельская местность уже превращалась в пригород, но для нас она была чудесна и наполнена смыслом, как Эдем. Хартли не была особенно умной, начитанной девочкой, она обладала мудростью невинных, и мы общались как ангелы. Ей было легко во времени и в пространстве.
Вижу, как она мне улыбается. Она была красива, но особой, скрытой красотой. В школе она «хорошенькой» не числилась. Иногда лицо ее бывало тяжелым, почти суровым, а когда она плакала, то становилась похожа на младенца-поросенка в «Алисе». Она была очень бледная, находили, что у нее болезненный вид, а на самом деле она была крепкая и здоровая. Лицо у нее было круглое, белое, а в глазах – удивление и загадочность, как у юной дикарки. Глаза были темно-синие, какие-то даже фиолетовые. Зрачки часто расширялись, и тогда глаза казались почти черными. У нее были очень тонкие светлые волосы, длинная стрижка. Губы бледные и всегда холодные, и, когда я, закрыв глаза, так по-детски касался их губами, какая-то холодная сила пронзала меня, словно копье, – такое мог бы почувствовать паломник, когда он, опустившись на колени, целует священный всеисцеляющий камень. Ее тело не отзывалось на мои объятия, но дух ее льнул ко мне языками холодного огня. Ее прекрасные плечи, ее длинные ноги тоже были бледны и казались холодными. Я ни разу не видел ее совсем обнаженной. Она была стройная, очень стройная, длинноногая и чистая и очень сильная. Она меня никогда не тискала, но, случалось, так сжимала мои руки пониже плеч, что оставались синяки. Ее загадочные фиолетовые глаза не закрывались, когда я тянулся поцеловать ее. Они глядели с тем странным удивлением, которое и было страстью. Эти тихие, молчаливые, почти чопорные объятия были самыми страстными, какие я знал. И мы были целомудренны, мы уважали друг друга и боготворили друг друга целомудренно. И это была страсть, это была любовь такая чистая, какой не будет уже никогда, какая и, вообще-то, редко встречается. Эти воспоминания сияют во мне, как ни одно произведение искусства, ярче и драгоценнее, чем Шекспир или Пьеро делла Франческа. Глубоко внутри меня есть кто-то, не ведающий ни времени, ни перемен, и эта часть моего существа до сих пор пребывает с Хартли в том блаженном краю, где мы с ней были когда-то.
Теперь, написав это, что я могу добавить? Просто описывать Хартли я мог бы еще и еще, но очень уж это больно. Я потерял ее, жемчужину моего мира. И до сего дня для меня остается тайной, как это случилось: тайной души молодой девушки, ее отношения к жизни. Я боялся чего угодно – что она умрет или я сам умру, что нас постигнет кара за избыток счастья; но того, что произошло, я не боялся и не представлял себе, во всяком случае сознательно. Или все мои страхи сводились к этому, но осознать это я не решался? Любовь, доведенная до крайности, несет в себе ужас, а ужас, подобно иным молитвам, что предполагают всеведение Господне, не знает границ, вмещает все. Так что, возможно, я боялся и этого. Наверно, я кричал в глубине смятенного сердца: помилуй, не дай случиться и этому, хотя «это» казалось немыслимым.
Попробую изложить все просто, ведь оно и в самом деле очень просто. Когда подошло время, Хартли решила, что не хочет выходить за меня замуж. Почему именно – выяснить не удалось. Я был слишком раздавлен горем, чтобы отчетливо думать, толково расспрашивать. Она отвечала смущенно, уклончиво – то ли не хотела причинить мне боль, то ли сама была слишком несчастна, то ли колебалась, а я, глупец, этого не заметил. Некоторые ее слова врезались в память. Но обозначали ли они «причины»? Все, что она говорила, она тут же смывала слезами. Еще давно у нас было условлено, что мы поженимся в восемнадцать лет, как только станем взрослыми. Среди этих непонятных, уклончивых, все смывающих слез как страстно я убеждал ее, что подожду, не буду ее торопить. Если это просто девичьи страхи, я не оскорблю ее, пусть остается как есть, лишь бы не отняла у нас наше драгоценное будущее, с которым мы так долго жили. Наш брак был ясной, определенной целью, я только боялся, что умру, не успев ее достигнуть. Имея перед собой эту ясную цель, я и уехал в Лондон, в театральное училище. Родителям мы все еще ничего не сказали. Может быть, в этом была моя ошибка? Я боялся осуждения матери, ее противодействия. Она могла сказать, что мы слишком молоды. Я не хотел до времени омрачать наше счастье семейными сценами, хотя мы столько раз говорили, что никакие сцены нам не страшны. Но если б наши родители знали и дали согласие или если б мы уже повоевали за свою любовь, самый факт, что наши планы на будущее известны, сделал бы их более обязывающими, более реальными. И конечно, это изменило бы атмосферу нашего маленького рая. Может, этой перемены я и боялся, может, я потерял Хартли, потому что был трусом? В чем, в чем была моя ошибка? Что случилось, когда я уехал в Лондон, как шли ее мысли? Ведь она согласилась, она поняла. Конечно, была разлука, но я писал каждый день. Я приезжал на воскресенья, она казалась прежней. А потом в один прекрасный день сказала…
Мы уехали на велосипедах к каналу, как часто ездили раньше. Велосипеды наши, как всегда, лежали в обнимку в высокой траве у прибрежной тропы. Мы пошли дальше пешком, глядя на все то знакомое и дорогое, что стало для нас своим. Кончалось лето. Было множество бабочек. При виде бабочек мне до сих пор вспоминаются те страшные минуты. Она заплакала. «Я больше так не могу, не могу. Я не могу выйти за тебя замуж». «Мы не дадим друг другу счастья». «Ты не останешься со мной, ты уйдешь, не будешь мне верен». «Нет, я тебя люблю, но не могу тебе верить, не понимаю». Оба мы обезумели от горя и в горе взывали друг к другу. В отчаянии, в смертельном ужасе я заклинал: «Будем хотя бы друзьями навеки, не можем мы покинуть друг друга, потерять друг друга, это невозможно, я умру». Она плакала и трясла головой. «Ты же знаешь, мы больше не можем быть друзьями». Вижу, как горят ее глаза, как дергаются мокрые от слез губы. Никогда я не мог понять, как она сумела проявить такую силу. Была ли она откровенна, или же ее слова скрывали другие слова, которые она не решалась произнести? Почему она передумала? Я спрашивал снова и снова, с чего она взяла, что я не буду ей верен, что мы не будем счастливы, почему вдруг утратила веру в будущее. «Я больше не могу, не могу». Может, кто-нибудь оговорил меня? Не может же она ревновать к моей жизни в Лондоне, где я только о ней и думаю. (Клемент еще была скрыта в грядущем.) Или она встретила кого-то другого? Нет, нет, нет, твердила она и принималась повторять свои непонятные доводы. Да, она была очень сильная. И она от меня ускользнула.