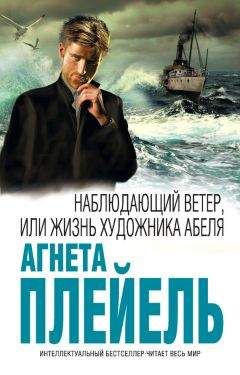Айрис Мердок - Море, море
Перри своим поведением заслужил мою глубокую благодарность, даже восхищение. Циники уверяли, что он был рад сбыть Розину с рук, но я-то знаю, что это не так, он страдал. Не сомневаюсь, что с Розиной у них шла непрерывная война, но то же можно сказать о многих, не обязательно несчастливых женатых парах. Думаю, что он любил ее, хотя, вероятно, как и я, со временем почувствовал, что она невыносима. И я вполне допускаю, что, когда проблема разрешилась помимо его воли, он ощутил облегчение. Позже он усиленно демонстрировал мужскую солидарность. Он по-прежнему очень ко мне привязан, и я это ценю. Одним из следствий его поистине удивительного великодушия и доброты является то, что, хотя объективно я понимал, что поступил дурно, вины я почти не чувствовал. Потому что Перри ни разу меня не упрекнул. А вот перед моим шофером Фредди Аркрайтом я всегда чувствовал себя виноватым, потому что однажды он на меня наорал, а не потому, что я вызвал его гнев, заставив три часа ждать голодным, пока сам обжирался в отеле «Коннот». Чувство вины часто порождается не самим проступком, а нареканиями за него.
Бродил по своим скалам, рвал цветы. Получился прелестный букет из валерианы, армерии и горицвета. У горицвета очень сильный сладкий запах. Все собираю камни, никак не могу остановиться. В корытце уже не хватает места, хотя самые красивые я пустил на бордюр вокруг лужайки. Выглядит он как-то несерьезно, еще не знаю, понравится ли он мне, когда будет закончен. Смотрятся камни хорошо, но боюсь, как бы не обесцветились с нижней стороны, где их касается земля.
Нынче утром купался с каменистого пляжа под дождем. Пляж примерно в миле от дома, в сторону деревни, так что я захватил трусы, однако не надевал их, потому что никого не было. От дождя море утихло, стало гладким, почти маслянистым. Вылезать было совсем нетрудно. Набрал еще камней. По дороге домой посидел голым на Минновом мосту, глядя, как глянцевитая вода влетает в глубокую яму. Даже в такой тихий день она там взметывается и спадает, точно прибой.
Вчера вечером было облачно, и я не мог проверить свою теорию, что призрачное «лицо», которое я видел, было отражением луны. Но я теперь уверен, что то была зрительная галлюцинация, и никаких больше объяснений не требуется. На вечер я расположился в красной комнате и затопил камин. Он опять дымил, – наверно, ветер переменился. Спасая паука, который бежал по тлеющему полешку, я вспомнил отца. До приезда сюда я несколько лет не имел комнаты с камином. Клемент всегда любила камины. Удивительный это процесс – горение. Как досконально и вроде бы деловито огонь все преображает, он такой чистый, чистый, как смерть. (Предстоит ли мне кремация? Кто будет этим заниматься? Не хочу думать о смерти.) До сих пор я держал дрова в кладовой, но там мало места и очень уж сырой пол. Можно бы отвести под дрова нижнюю внутреннюю комнату. Плавник такой красивый, отполирован морем, высветлен до бледно-серого цвета, его и жечь-то жалко. Я отобрал несколько кусков с особенно интересным рисунком. Может быть, составлю коллекцию плавниковой «скульптуры».
Скоро стемнеет, я сижу у окна в гостиной и смотрю, как дождь упорно изливается в море. Есть некая грозная простота в этом сером пейзаже. Темная линия горизонта, а выше и ниже море и небо почти одного цвета – приглушенного, чуть светящегося серого оттенка, затихшие, словно в ожидании чего-то – чтобы вспыхнули молнии или чудовища поднялись из воды. Благодарение богу, больше галлюцинаций у меня не было, и тот факт, что я так быстро забыл свое видение, лишний раз убеждает меня, что это и правда было замедленным действием наркотика, столь опрометчиво мною испробованного. Да и «видел» ли я в самом деле что-нибудь, требующее хотя бы такого объяснения? Я внимательно оглядываю прибитое дождем море, но никакие гигантские, свитые кольцами шеи из него не вырастают. (Тюленей тоже нет.) Как ни странно, я только недавно задумался над словами того мужлана в «Черном льве» насчет червей. Ведь в старину червем называли змея, дракона. А впрочем, не слишком ли много фантастики – драконы, полтергейсты, лица в окошках! И какое беспокойное чувство вызывает дождь.
Перечитал свои этюды о Джеймсе и Перегрине, они производят впечатление. Конечно, это лишь наброски, нужно выписать их подробнее, чтобы придать им достоверности и «правды». Мне только сейчас пришло в голову, что в этих «мемуарах» я мог бы написать о своей жизни кучу небылиц, и все приняли бы их за чистую монету. Таково человеческое легковерие, сила печатного слова и любого известного имени, особенно если оно связано со «зрелищным бизнесом». Даже когда читатели говорят, что не очень-то верят автору, они лукавят. Им ужасно хочется верить, и они верят, потому что верить легче, чем не верить, и еще потому, что все написанное на бумаге можно назвать «в каком-то смысле правдой». Надеюсь, эти попутные соображения никого не заставят усомниться в истинности моей истории! Когда я дойду до описания моей жизни с Клемент Мэйкин, даже легковерам придется туго, но авось они окажутся на высоте!
С тех пор как я начал писать эту «книгу», или мемуары, или автобиографию, у меня такое чувство, будто я брожу по темной пещере, куда свет проникает через разные отверстия или колодцы – может быть, из внешнего мира. (Картина словно бы мрачная, но для меня в ней ничего мрачного нет.) Среди этих пятен света есть одно, самое большое, к которому я полусознательно держу путь. Возможно, это большое «окно», за которым сияет день, а возможно – щель, сквозь которую вырывается пламя из центра земли. Я еще сомневаюсь, что вернее и следует ли мне подойти ближе, чтобы удостовериться. Образ этот возник до того внезапно, не знаю, как его осмыслить.
Когда я решил писать о себе, передо мной, естественно, встал вопрос: значит, нужно писать о Хартли? Ну конечно, думал я, писать о Хартли нужно, раз это самое важное в моей жизни. Но как? Какой стиль, достойный этой священной темы, могу я выбрать или выработать и не окажется ли нестерпимо мучительной всякая попытка вновь пережить те события? Или это будет попросту святотатство? Или вдруг я возьму неправильный тон и вместо чуда получится нелепый гротеск? Лучше было бы, пожалуй, рассказать свою жизнь, не упоминая о Хартли, хотя такое умолчание было бы равносильно грубой лжи. Возможно ли, создавая автопортрет, умолчать о чем-то таком, что изменило всю твою сущность и о чем думал каждый божий день? «Каждый день» – преувеличение, но не такое уж большое. Мне не требуется нарочно вспоминать Хартли, она здесь, передо мной. Она – мое начало и мой конец, альфа и омега.
Я предпочел оставить этот вопрос открытым – слишком уж хлопотно было искать ответ. Решил просто писать, а там видно будет, способен ли я как-то подойти к этой огромной теме или, может быть, уже подошел к ней. И так же, как в свое время я неожиданно для себя написал: «Мой дед со стороны отца был огородником в Линкольншире», – так вот теперь, бродя по моей пещере, я приблизился к великому источнику света и готов говорить о своей первой любви. Но что я могу сказать? Где найти нужные слова? Моя первая любовь, моя единственная любовь. По сравнению с ней все, даже Клемент, были бледными тенями. Для меня это так непреложно, что мне трудно себе представить, что у других это может быть иначе. On n’aime qu’une fois, la première[16].
Звали ее Мэри Хартли Смит. Как быстро, как охотно я это написал. А сердце-то застучало. О господи. Мэри Хартли Смит.
Итак, заглавие для рассказа есть. А написать рассказ я не могу. Напишу кое-какие заметки к рассказу, тем, возможно, дело и кончится. Да и откуда взяться рассказу? Фабулы-то нет, одни чувства – чувства ребенка, юноши, молодого мужчины, туманные и святые, самое сильное, что испытано в жизни. Я почти не помню времени, когда я не знал Хартли. В школе у нас учились только мальчики, но женская школа была рядом, и мы все время общались с девочками. В то время Мэри было чуть ли не самое частое имя, поэтому ее все звали Хартли, так это имя за ней и осталось. Мы с ней дружили, но поначалу, сколько помнится, весело, по-детски, без глубоких эмоций. Эмоции начались лет в двенадцать. Они нас поразили, озадачили. Они трепали нас, как терьер треплет крысу. Мы были… нет, стертым словом «влюблены» это не выразишь. Мы любили друг друга, жили друг в друге и друг другом. Мы были друг другом. Почему то была такая чистая, беспримесная боль?
Странно, что я написал (и не изменю) слово «боль», ведь это была, конечно же, чистая радость. Может быть, дело в том, что чувство, как его ни назови, было столь всеобъемлюще и чисто. (Говорят, если завязать человеку глаза, он не отличит сильного ожога от сильного холода.) Или, может быть, в этом возрасте все эмоции ощущаются как боль, потому что не освещены мыслью. Все обращается в страх и ужас, и чем чудеснее, чем радостнее, тем страх и ужас сильнее. Но повторяю: мысль, рассуждения отсутствовали. Я не спрашивал себя, всегда ли Хартли будет меня любить, я просто знал, что она моя навеки. Но когда мы закрывали глаза, в них были слезы радости, а в сердцах – космический ужас.