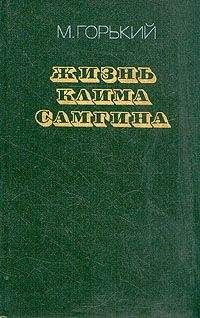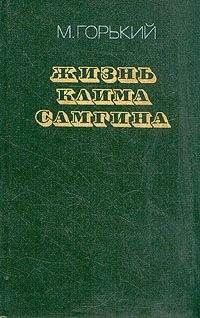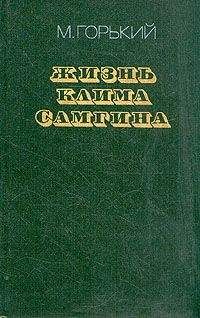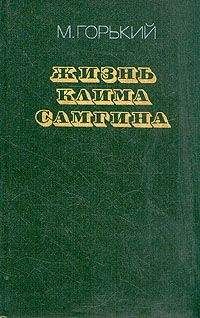Томас Эспедал - Вопреки искусству
Запершись в комнате, я любил курить в окно. Сигареты я крал у мамы, а спиртное – у отца. Нацедив немного из бутылки, я доливал бутылку водой. Он и сам так делал, наливал в бутылки воду, чтобы мама не догадалась, что содержимого в бутылках стало меньше. Он тщательно скрывал или старался скрыть, что выпивает, и это удивительно, ведь аквавит он гнал сам. Самогонный аппарат стоял в подвале, в кладовке, и представлял собой большую металлическую посудину, под которой располагалась плитка. Из посудины торчала длинная изогнутая трубка, а другой конец ее был опущен в колбу, где спирт, девяносто шесть градусов, охлаждался и доочищался. По образованию отец был химик, но сомневаюсь, что учеба пригодилось ему на что-то помимо производства самогона, по его словам, «лучшего и чистейшего в мире». Получается, мы оба жили тайной жизнью и врали. Запершись в комнате, я открывал окно, пил самогонку, разбавленную апельсиновым соком, курил сигареты и мечтал стать писателем. Откуда у меня взялась эта мечта? Я прочитал множество книг, и порой – не часто, но бывало – мне казалось, что я мог бы написать сам книгу, которую только что прочел. Нет, не книги Дорис Лессинг, не Диккенса и не Томаса Гарди, это я осознал, когда мне было лет шестнадцать-семнадцать, но книги Мюкле и Бьернебу можно, это не казалось невозможным, думал, верил я. Конечно, мысли эти были довольно глупыми, но, чтобы стать писателем, нужно изначально быть глупым, это я понимаю сейчас, но не тогда, я не понимал собственной глупости и невежества, не понимал, какая степень глупости и невежества нужна, чтобы стать писателем. Мне хотелось писать книги, во всяком случае одну книгу, почему бы и нет, книги существуют, значит, кто-то их пишет. Прочитав «Тесс из рода д’Эрбервиллей» Томаса Гарди, в Тесс я узнал себя. Той внезапно сообщают, что она отпрыск рода более знатного, чем бедняцкая семья, в которой она выросла. Родители отправляют ее к состоятельным людям, чтобы она нашла свое место среди них, но переезд с одного места на другое, видел я, сломал Тесс. Переехав со Стрелковой улицы на Островную, я потерял друзей, а новых заводить не пожелал, во всяком случае не здесь, это место для меня безнадежно, новую жизнь тут начать все равно не получится – для этого нужно было переехать гораздо дальше. Здесь я не мог стать другим, от многоквартирных домов Стрелковой улицы меня отделяла всего пара сотен метров, и если я завтра вдруг полностью изменюсь, все они поймут, что я – подделка.
Я был прежде всего сам по себе. Написать слово «одиночество» бывает сложно, но я был одиноким. А может, и не был. Закрывшись в комнате, я писал дневники – страница за страницей. Дневник за дневником. Я заполнял страницы мыслями и мечтами, писал небольшие рассказы и делал заметки. Я населил дневники друзьями и подругами, на страницах дневника я влюблялся, путешествовал по разным странам и знакомился с людьми. Постепенно эти люди и места начинали жить отдельной жизнью, собственной жизнью. Нет, нельзя сказать, что они действительно оживали или казались настоящими, но порой я думал о них как о живых, и они по-своему существовали, словно привидения или куклы-марионетки, отражения возможных или давно прошедших жизней. Совсем как персонажи романов. Дневники все более походили на романы, язык моих повествований выровнялся, приобрел форму, а из этой формы вылеплялись, будто из глины или земли, руки и ноги, тела и лица, предложения и слова, и они казались правдоподобными.
Из-за писательства возраст мой стал другим. Я пережил то, чего в моем возрасте еще не испытывают, у меня сложился собственный язык, и он оживил явления, о которых я не знал, – в моих текстах они появлялись, развивались и облекались в форму, иначе не скажешь. Я думаю, чтобы написать то, что я только что рассказал, нужно провести в одиночестве много времени. Родители Тесс и Марты Квест, как и мои родители, и, наверное, как все остальные родители на свете, виновны в одном и том же преступлении: они не знали собственных детей, не понимали их, не могли разглядеть, что таится в них, родители принимали своего ребенка за кого-то другого, они хотели заставить подростков, которые как раз становились самостоятельными, упрямыми и свободными, превратиться в свое подобие, отдаться в плен, стать пленниками профессии, работы и пустой бессмысленной жизни, написал я в дневнике в семнадцать лет, прочитав «Тесс из рода д’Эрбервиллей». Сейчас, спустя двадцать лет писательства и отцовства, я уже так не считаю; подобно моим родителям и всем остальным родителям, я тоже полагаю, что самым лучшим для моей дочери было бы получить образование и найти работу. Теперь я зарабатываю писательством на жизнь, считаю писательство работой и работаю ради денег, изо всех сил стараясь обеспечить себя и дочь. Сев за первую мою пишущую машинку, я тотчас же почувствовал, что работаю, что передо мной станок, машина. Каждый раз, когда я упирал палец в черную клавишу, на белой бумаге отпечатывались маленькие черные буквы. Я производил слова. Мой станок производил слова и предложения, а стук клавиш чем-то напоминал гул ткацких станков на фабрике, где работал отец. Пишущая машинка досталась мне от мамы, и теперь оставалось лишь вставить за валик лист бумаги, и можно было печатать сколько душе угодно. По большому счету, мне было все равно, что писать – больше всего мне нравилось наблюдать, как на бумаге отпечатываются предложения и слова, как на белом появляются черные значки.
Мы с пишущей машинкой сразу сработались. Или спелись. Было похоже, что я нашел свое орудие, свой инструмент, наверное, именно так дети, сев впервые за пианино, нажимают на клавиши и выстукивают свои первые мелодии, словно нашей внутренней музыке, которую мы прежде не могли выразить, удалось отыскать правильный инструмент. Когда я впервые уселся за пишущую машинку, у меня тотчас же появилось ощущение – я делаю все правильно. Я отыскал свой инструмент.
Я нашел не только свой станок, но и свое место. Мне нравилось сидеть за письменным столом, тихо и сосредоточенно, будто в ожидании чего-то неведомого, час за часом, вечера и ночи напролет настороженно и чутко бодрствовать, и эта внимательность со временем выливалась в слова и предложения, которые часто казались чужими, порой неприятными, словно написал их не я, а кто-то другой, я не всегда знал, откуда берутся эти слова. Тогда ничто не предвещало, что я смогу стать писателем, единственное пригодное для этого качество, которым я обладал, была работоспособность, желание изо дня в день сидеть за письменным столом. Я нашел свое место. Я нашел свой станок. Но чтобы обрести необходимый мне язык, потребовалось время. Я понимал, что мне нужно выработать его, мой собственный язык, которым я пока не обладал, нужно писать, работать, по-другому никак не получится. Язык сам собой не появится. Конечно, можно читать книги, и я читал, но от чтения никакой пользы, это впустую потраченное время, если не перерабатываешь прочитанное в собственное писание. Первый роман я написал, когда мне было семнадцать. Спустя год я написал еще один, а в девятнадцать лет – сборник стихотворений «Китайская шкатулка». Ни одна из этих книг художественной ценности не представляла, прочитав их, никак нельзя было предположить, что написавший это когда-либо сможет стать писателем. Однако для меня важным было совсем не это, а что на письменном столе растет стопка бумаги. Я исписал уже больше пятисот страниц, стопка росла, пухла, увеличивалась, а я все докладывал в нее листок за листком. Стопка эта лежала справа от пишущей машинки, я мог подолгу сидеть, разглядывая ее. Толщиной она была сантиметров пять, листки были мелко испещрены текстом, заляпаны едой, на них виднелись отпечатки пальцев; мне листки казались прекрасными. Я подносил листок к лампе и рассматривал перечеркивающие его черные линии, исправления и пометки, сделанные между строчками и на полях, сами строчки были порой жирно перечеркнуты ручкой, страницы эти казались мне прекрасными. Содержание было совершенно убогим, это становилось очевидным, когда я спустя несколько дней перечитывал написанное. Меня переполняли стыд и злоба – настолько несовершенны, незрелы, глупы были мои фразы, неловки формулировки, фразы скверные, мысли неловкие, многословные описания, все эти затянутые монологи и никчемные диалоги. Достаточно было лишь перечитать один из романов Гамсуна или Лоренса, и я тотчас же убеждался, что все написанное мной никуда не годится.
На моих внутренних весах объем пухлой стопки бумаги перевешивала нечитаемость ее содержимого, она была важнее каждого отдельного листочка, испещренного никуда не годными фразами. Тяжелая стопка бумаги весила больше всех этих коротких неудачных словечек и пустых бессмысленных предложений; я должен был продолжать писать.
Стопка бумаги лежала под настольной лампой. Письменный стол стоял возле окна, а на дверь комнаты я прибил крючок. Я мог писать обо всем, о чем захочется. Стол, пол, кровать и стулья были завалены черновиками; отдельные листки и записные книжки, альбомы для рисования и бумага для писем, учебники и календари – все было испещрено мелкими неразборчивыми закорючками, которые я потом перепечатывал на чистые листы. Стопка бумаги росла. Казалось, что она будет расти бесконечно, тогда, в шестнадцать или девятнадцать лет, остановить меня было невозможно, фразы рождались сами собой, язык работал как станок, как языковая машина, которая производит мои слова и фразы в ровном постоянном ритме, день и ночь.