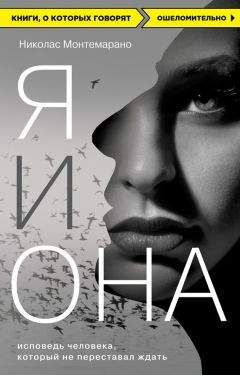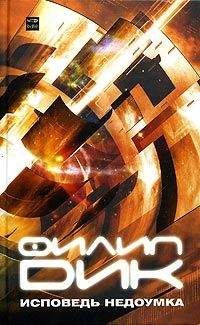Мануэль Скорса - Траурный марш по селенью Ранкас
Судья дошел до того, что велел подмести весь дом и даже протереть полы керосином, чей запах смешивался теперь с запахом пота, исходившим от дам, которые притащили сюда своих отпрысков. Эти сопляки (носы их и впрямь была забиты соплями) заглушали своим визгом музыку.
Отцы и матери города танцевали на опилках, которыми посыпали скользкий от керосина пол. Такого безумного веселья здесь еще не бывало. К утру, когда ноги уже не двигались, дон Аркимедес спросил:
– А не сыграть ли нам в покер?
– Прекрасная мысль! – сказал дон Мигдонио, который было заскучал.
Беда не приходит одна, и через несколько недель мой кум Полонио Крус дал мне своих лошадей, а я как на грех не доглядел, и их снова забрали. Я опять пошел в поместье, и меня опять не стали слушать. На сей раз пришлось отдать чужую лошадь, а кум с досады сказал мне: «Твоя вина». И правда, вина была моя. Я отдал ему взамен кобылу, и он ее полюбил.
Но пришла другая беда, похуже. Чтобы поправить дела, я засеял брошенную землю, называлась она Янасениса. Посеял десять мешков, семена выбрал на славу. Картошка бывает разная: рассыпчатая – самая вкусная; желтую хорошо берут; белая идет в стряпню; есть и сорт, который идет на крахмал. Я выбрал семена покрупнее, разных цветов. Земля мне отплатила, картошка взошла на славу. В апреле она цвела – красота, да и только! Тут и случилось несчастье: как-то ночью помещичье стадо разорило мое поле. Да, не везет! На другую ночь скотина опять пришла. Я их отгонял камнями, но не отогнал. Изловил я пастуха и спрашиваю:
– Чего тут ходишь?
А он голову опустил.
– Судья приказал тут пасти. Мы и сами не рады, дон Эктор.
Опечалился я, пошел в город, прямо к судье. Он куда-то собрался. Я говорю:
– Разрешите к вам обратиться?
А он идет и идет.
– Это насчет картошки?
– Да, сеньор.
Он остановился.
– Все тебе плохо, Чакон! В третий раз лезешь. Я этим не занимаюсь. Говори с женой.
Донья Пепита думает, что женщине все можно, и бранится похуже пьяницы. Хотел я с ней поговорить, но она была занята – пересчитывала серебро и отрезы. Я прождал все утро, а к полудню она вышла во дворик и кричит:
– Кристина! Кристина!
К ней поскорее побежали две девушки.
– Расчешите мне волосы.
Они вынесли два креслица, хозяйка села в одно, а девица – в другое.
– Говори побыстрее, мне некогда, – сказала донья Пени та и опустила волосы на лицо.
– Донья Пепита, ваше стадо поело мою картошку!
Девица, которая ее чесала, посмотрела на меня. Я ее еще маленькой знал. Как-то, помню, поймал для нее форель…
– А кто тебе сказал, индеец поганый, что это твое поле?
– Я сам его засеял, сеньора. Она вздернула голову.
– А зачем ты там сеял, мразь?!
– Оно никому не нужно. Община мне разрешила.
– А кто она такая, чтобы разрешать? Община, подумаешь! Плевала я… Здесь ничьих земель нет. Здесь все земли мои.
– Почему это, сеньора? Там ведь никто не сеял еще при моих дедах.
– А я рада! – закричала она, поднимая с лица волосы. – Я очень рада, что мои овцы сожрали твою картошку! Ты – паршивый индеец и нахал! Человеческих слов не понимаешь, вечно лезешь! Еще попляшешь у меня!
Расставили столы. Дон Мигдонио де ла Торре-и-Коваррубиас дель Кампо дель Мораль, судья Франсиско Монтенегро, субпрефект Валерио и алькальд дон Эрон де лос Риос уселись за карты. Вскоре они совсем проснулись. Когда же карты раздали в третий раз, Козья Лапа тихо посоветовал судье поднять ставки. Дон Мигдонио, который как раз придерживал стрит от короля, очень рассердился. Прочие возгорелись духом, взвинтили ставки до пяти тысяч, и прикарманил их судья. Игроки очертя голову ринулись в лабиринты азарта и не опомнились до восьми утра. Собственно, тогда их и прервали – пригласили перекусить, но утиный бульон не понравился дону Мигдонио, как раз проигравшему одиннадцать тысяч. Надо заметить, что скупость его превосходила даже суеверную трусость, и он готов был бы ради десяти солей ночью копать на кладбище землю, лиловея от страха. А теперь, поспешно восклицая: «Ну, как же расстаться с такими хорошими друзьями!», он наотрез отказался прекратить столь интересную игру. Все вздремнули и в одиннадцать утра снова засели за карты. Играли весь день, а вечер, немилостивый к хворым, принес удачу дону Мигдонио. Когда подали курицу с перцем – поистине сикстинскую капеллу местной кухни! – судья проигрывал четырнадцатую тысячу и не пожелал расстаться с гостями, с неудовольствием косясь на везучего субпрефекта. К ночи снова сели за карты, и дон Аркимедес обрел былую милость, но к утру опять утерял ее, так как перед ним лежало восемнадцать тысяч. На сей раз услады дружбы особенно пленяли дона Мигдонио. Игроки вздремнули и сели за карты в полдень. Играли они девяносто дней подряд. Я кусал руки, чтоб не плакать.
Когда я шел назад, солнце сильно пекло.
Через площадь пробежали дети. За ними гналась собака. Они обернулись, она убежала. Так и я – бегу, словно пес, как только помещики обернутся. Во рту у меня пересохло, и я зашел выпить к дону Глисерно Сиснеросу. А там я встретил Саломона Рекиса, муниципального агента Янакочи, и Авраама Карвахаля. Увидел их и словно с цепи сорвался.
– Какая ты к черту власть! – крикнул я и ударил Саломона.
– Чего ты, Чакон?
– Видишь, что со мной делают, – заплакал я, – И не поможешь.
Рекис отер кровь с губы, а Карвахаль сказал:
– Ты прав, Чакон. Ничего мы не значим!
– Выпей, брат, – сказал дон Глисерио. – Выпей рюмочку даром.
– Карвахаль прав, мы' ничего не значим, судья нас задавил.
– А ты этот скот задержи, когда другой раз придут. На это еще никто не решался.
– Запри их в стойла! А мы присмотрим, все ж начальство.
Я выпил.
– Прости меня, сеньор Рекис.
– Будь здоров, Чакон.
Я поговорил с соседями – Сантосом Чаконом и Эстебаном Эррерой (они тоже беспокоились, что поместье творит бог знает что), и мы приготовились встретить стадо. На следующую ночь, когда оно явилось, я крикнул соседей и попросил: «Помогите отвести их в стойло». И мы погнали в Янауанку пятнадцать голов помещичьего скота.
– Сеньор, – сказал я Рекису, – они восемь дней разоряют мое поле.
– Подай жалобу, напиши, сколько они попортили.
– А они будут тут?
– Да, они тут останутся, пока решится твое дело.
– Спасибо, сеньор.
Вдруг откуда ни возьмись явились два жандарма и прицелились в меня из револьверов. Рекис побелел, а они спрашивают:
– Ты откуда?
– Я скот привел, сеньоры жандармы. Хочу, чтоб мне убытки возместили.
– На тебя есть донос. Ты украл это стадо у судьи Монтенегро.
Я обернулся, а свидетелей нет.
– Они мне поле разоряют, они у меня…
– Ты их украл. Пойдешь с нами. И ты, Рекис.
– Я ничего не знаю, – забормотал Рекис. – Это он их привел. А я не знаю.
– Ладно. Отведи овец пастухам из поместья и убирайся.
– Спасибо, сеньоры, – обрадовался он.
– А ты, Чакон, иди. с нами.
Держали меня семь дней. А во вторник прямо из каталажки отвели к судье.
– Так, – сказал судья. – Уходите.
Жандармы отдали ему честь.
– Чакон, – сказал он мне, – очень уж ты умный. Очень ты нетерпеливый. Почему ты мое стадо увел?
– А почему вы мне поле разорили, сеньор?
Он поднял палец.
– На этот раз я тебя прощу, а на другой – просидишь полгода. Понял, дерьмо?
– Почему вы мне поле разорили? Как мне жить? Что я есть буду?
– Сей где-нибудь еще. Янасениса – моя.
Я вернулся в Янакочу. Дон Авраам Карвахаль удивился, что я на свободе.
– Как ты вышел, Эктор?
– Ногами, дон Авраам.
А старик мой меня обнял и говорит им:
– Ничего вы, власти, не стоите!
И плюнул на землю. Карвахаль опечалился.
– Тут одна власть, – говорит он; – судья.
– Навоз больше стоит, чем вы, – говорит старик.
– Судья нас всех пересажает, – говорит Рекис, – и ничего мы не сделаем. Сила есть Сила.
– Слушай, сеньор, – говорю я. – Судья мне сказал, чтоб я не сеял в Янасенисе, а то он меня на всю жизнь засадит. Как же мне жить?
– Община даст тебе надел, Эктор. Повыше, чем Чинче.
– Идем! – говорит мой старик.
Мы пошли, и я его спросил:
– Откуда взялись помещики, отец?
Он мне не ответил.
– Откуда они?
Он остановился.
– Откуда они, отец? Почему в Уараутамбо есть хозяин.
Старик мой присел на камень и ответил мне.
Донья Пепита с. тревогой следила за поединком. Ни судья, ни помещик не сдавались и заходили все дальше в лабиринт комбинаций. Из-за стола они вставали, чтобы умыться или вздремнуть, а ели тут же, в гостиной, продымленной тысячами сигарет. Город, лишенный высших чиновников, не жил, а прозябал. Телеграммы и жалобы старели на конторках. На шестнадцатый день игры секретарь Монтенегро, писец Сантьяго Пасьон, испугался немного и посмел заглянуть в сплошное облако дыма.