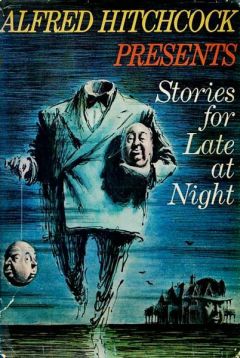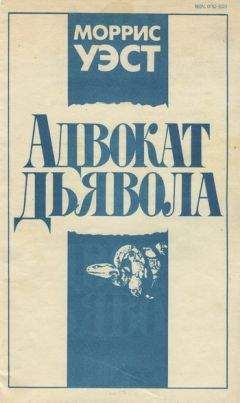Нина Георге - Лавандовая комната
Они беседовали так непринужденно, как будто знали друг друга много лет. О Карле Бруни[18], о морских коньках, самцы которых вынашивают потомство в кармане на брюшке. О моде на соль с разными вкусовыми добавками. И разумеется, о соседях.
Темы, серьезные и легкие, приходили сами собой между вином и рыбой, за совместными кулинарными манипуляциями. Эгаре казалось, что они с Катрин фраза за фразой открывают свое внутреннее родство.
Он делал соус, Катрин жарила в этом соусе рыбу. Ели они прямо из сковородок, стоя, поскольку у Катрин был всего один стул.
Она налила вина, легкого желтого тапи из Гаскони. И он действительно пил! Осторожными глотками.
Это было самое удивительное в его первом с 1992 года рандеву: едва переступив порог квартиры Катрин, он ощутил непривычное чувство безопасности, окутавшее его, словно облако. Все опасные, болезненные мысли, обычно кружившие на периферии его сознания, сюда не проникали. Они как будто остались за некой прозрачной волшебной стеной.
– Чем вы сейчас живете? Чем занимаетесь? – спросил в какой-то момент Эгаре, когда они уже поговорили обо всем на свете, вплоть до портных президентов.
– Я? Поисками, – ответила она, потянувшись за куском багета. – Я ищу себя. До… до того, что со мной произошло, я была ассистенткой, секретаршей, пиар-менеджером и почитательницей своего мужа. Сейчас я ищу то, что умела до встречи с ним. Точнее, ставлю опыты, пытаясь понять, остались ли еще какие-то навыки. Вот этим я и занимаюсь. Опытами.
Она принялась выскребать мякиш из багета и мять его тонкими пальцами, стараясь придать ему какую-то форму.
Эгаре читал Катрин, как книгу. Она не противилась, предоставив ему свободно листать повесть ее души, вглядываться в перипетии ее истории.
– Я себя сегодня чувствую, как будто мне не сорок восемь лет, а восемь. В детстве я ненавидела, когда меня игнорировали. И в то же время, когда кто-нибудь проявлял ко мне интерес, сразу терялась. К тому же этот интерес должны были проявлять не все подряд, а только те, кто был мне нужен: богатая девочка с гладкими волосами, с которой я хотела подружиться, добрый учитель, который должен был обратить внимание на то, с какой скромностью я делюсь своими обширными познаниями. И моя мать. Ах, моя мать… – Катрин замолчала. Пальцы ее продолжали лепить что-то из хлебного мякиша. – Мне всегда было необходимо внимание как раз самых больших эгоистов. Остальные мне были безразличны: мой отец, толстая, вечно потная Ольга с первого этажа. Хотя они были очень даже милы. Но когда я нравилась «милым» людям, мне было как-то неловко. Глупо, правда? И вот такой вот глупой девчонкой я была и в замужестве. Я хотела, чтобы на меня обратил внимание мой муж, этот идиот, а всех остальных я в упор не видела. Но теперь я созрела для того, чтобы изменить это. Передайте мне, пожалуйста, перец.
Она слепила из мякиша своими маленькими тонкими пальцами морского конька и вставила ему глазки из горошинок перца.
– Я была скульптором, – сказала она и протянула Эгаре морского конька. – Когда-то. Мне сорок восемь лет, и я начинаю учиться всему заново. Не помню, сколько лет прошло с тех пор, как я в последний раз спала со своим мужем. Я была верной дурой и потому жутко одинокой, такой одинокой, что если вы вздумаете проявлять ко мне участие и великодушие, то я вас просто укушу. Или убью. Потому что терпеть этого не могу.
Эгаре с удивлением смотрел на себя со стороны: он с такой женщиной, один, за закрытой дверью…
Позабыв обо всем на свете, он с таким жадным любопытством рассматривал лицо Катрин, ее голову, словно собирался залезть внутрь и узнать, что там есть еще интересного.
У Катрин были проколоты уши, но серьги она не носила. («Те серьги с рубинами теперь носит его новая пассия. Жаль, я бы с таким удовольствием швырнула их к его ногам».) Иногда она касалась пальцами ямки на шее, словно искала что-то. Возможно, цепочку, которую теперь тоже носила другая.
– А чем занимаетесь вы? – спросила она.
Эгаре рассказал ей о своей «Литературной аптеке».
– Пузатая баржа с камбузом, ванной, двумя койками и восемью тысячами книг. Отдельный мирок.
И игрушечное приключение, как и всякое другое судно, прикованное к берегу. Но этого он не сказал.
– И посреди этого мирка – король, мсье Эгаре, литературный фармацевт, выписывающий лекарства от любовных мук.
Катрин показала рукой на пакет с книгами, которые он принес ей накануне вечером:
– Кстати, помогает.
– А кем вы хотели стать, когда были девочкой? – спросил он, чтобы скрыть охватившее его вдруг смущение.
– О, я хотела стать библиотекарем. И пиратом. Ваш «книжный ковчег» – как раз то, что мне было нужно. Днем я бы добывала из книг все тайны и сокровища мира.
Эгаре слушал ее с растущей симпатией.
– А ночью отнимала бы у злых людей все, что они выдурили у добрых своим враньем. И взамен оставляла бы им одну-единственную книжку, которая бы их просветила, пробудила в них раскаяние и превратила их в добрых людей – ну и так далее… Естественно, а как же иначе!
Она рассмеялась.
– Все верно, – подтвердил он ее иронию.
Ведь это единственное трагическое свойство книг: они действительно изменяют людей. Но только не злых. Эти не становятся хорошими отцами, любящими мужьями, добрыми, преданными подругами. Они остаются тиранами, продолжают мучить своих сотрудников, детей, собак, радуясь унижению своих жертв, непримиримые в мелочах, трусливые в серьезных ситуациях.
– Книги были моими друзьями, – сказала Катрин, охлаждая бокалом с вином раскрасневшуюся от кухонного жара щеку. – Мне кажется, я все свои чувства взяла из книг. В них я любила, смеялась и узнала больше, чем за всю свою внекнижную жизнь.
– Я тоже, – пробормотал Эгаре.
Взгляды их встретились, и все произошло как-то очень просто и естественно.
– А что, собственно, означает это «Ж» в вашей записке? – спросила Катрин внезапно потеплевшим голосом.
Он не сразу смог ответить: ему пришлось прокашляться.
– Жан… – произнес он почти шепотом непривычно заплетающимся языком – настолько чужим стало для него это слово. – Меня зовут Жан Альбер Виктор Эгаре. Альбер – в честь моего деда по отцовской линии. Виктор – в честь моего деда по материнской линии. Моя мать – преподаватель, ее отец Виктор Бернье был токсикологом, социалистом и мэром. Мне пятьдесят лет, Катрин, и в моей жизни было очень немного женщин, еще меньше тех, с которыми я спал. Одну из них я любил. Она ушла от меня.
Катрин неотрывно смотрела на него.
– Двадцать один год назад. Это письмо – от нее. И я боюсь читать его.
Он ждал, что она вышвырнет его. Даст ему пощечину. Отведет взгляд. Но она не сделала ни того, ни другого, ни третьего.
– Ах, Жан… – прошептала Катрин с искренним состраданием.
– Жан…
Давно забытое сладкое ощущение от того, что кто-то произносит твое имя.
Они смотрели друг на друга. Он заметил в ее взгляде едва уловимый трепет, почувствовал, что и сам вдруг стал мягким, податливым, и впустил ее в себя. Они проникли друг в друга взглядами и непроизнесенными словами.
Две лодки в открытом море, которые думали, что, с тех пор как потеряли якоря, дрейфуют в одиночку, и вдруг…
Она провела рукой по его щеке.
Эта секундная ласка прозвенела в его сознании как пощечина, потрясающе сладкая, блаженная пощечина.
Еще! Еще!
Когда она поставила на стол свой бокал, их обнаженные предплечья соприкоснулись.
Кожа. Нежный пушок. Тепло.
Кто из них испугался больше – неизвестно, но то, что этот испуг был вызван не ощущением чужеродности, внезапной близостью, соприкосновением, оба поняли мгновенно.
Они испугались остроты этого ощущения.
11
Жан сделал шаг в ее сторону и, встав у нее за спиной, почувствовал запах ее волос и ощутил грудью ее плечи. Сердце его бешено колотилось. Он медленно и внешне очень спокойно положил ладони на ее тонкие запястья. Сомкнув на них большие и средние пальцы, он нежно провел этими почти бестелесными кольцами из тепла и кожи вверх по рукам Катрин.
Она судорожно вздохнула тонким, птичьим голосом, на острие которого едва внятно прошелестело его имя:
– Жан!..
– Да, Катрин.
Эгаре почувствовал растущую в ней дрожь. Эта дрожь шла из эпицентра внизу живота, раскатистая и гулкая, как землетрясение. Она катилась волнами.
Он обнял ее сзади, чтобы сдержать эти волны.
Тело ее содрогалось, не оставляя сомнений в том, что оно долго, очень долго не знало ласки. Она была нераспустившимся цветком, сжатым, стиснутым в своей оболочке.
И такой одинокой. Такой покинутой.
Катрин прислонилась к нему. Ее волосы приятно пахли.
Прикосновения Эгаре становились все нежней, он гладил только кончики тонких волосков на ее голых руках, только воздух над ними.
Как хорошо!
«Еще! – молила плоть Катрин. – Пожалуйста, еще! Я так давно не испытывала этого, я изнемогаю от жажды! Нет, это слишком остро, слишком сильно! Я не выдержу этого! Мне так этого не хватало! Я терпела эту жажду до сегодняшнего дня, я была так жестока к себе самой. Но теперь – о, я распадаюсь на части, рассыпаюсь, как песок, растворяюсь, помоги мне, не прерывай эту сладкую муку!»