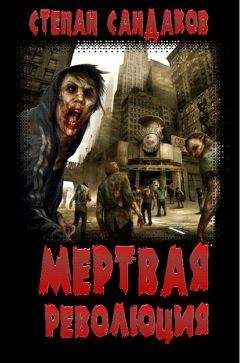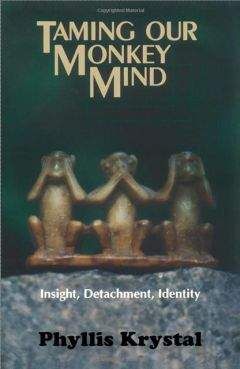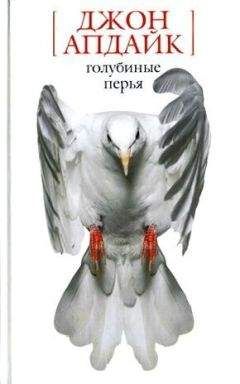Сол Беллоу - Равельштейн
Здесь читатель может неправильно меня понять. Не нужно путать Равельштейна с университетскими «борцами за свободу», коих было предостаточно в мои студенческие годы. Они якобы открывали вам глаза на буржуазное воспитание, которое вы получили в родительском доме – и от которого вас должен освободить университет. Эти свободолюбцы считали себя образцами для подражания, а порой и вовсе революционерами. Они болтали на молодежном жаргоне, отпускали длинные патлы и бороды. Эдакие хиппи и свингеры от науки.
Равельштейн ничего подобного не делал – ему невозможно было подражать. Без усердной учебы, без повторения эзотерических потуг истолкования, через которые он сам некогда прошел под руководством своего покойного учителя – одиозного Феликса Даварра, – никто не мог стать таким, как он.
Порой я пытаюсь поставить себя на место какого-нибудь талантливого юноши из Оклахомы, Юты или Манитобы, которого пригласили в закрытый кружок со штаб-квартирой в доме Равельштейна. Вот он поднимается на лифте и обнаруживает перед собой распахнутую дверь, получает первые впечатления от среды обитания учителя: огромные старинные (порой протертые до дыр) восточные ковры, зеркала, классические статуэтки, картины, антикварные французские серванты, люстры и настенные светильники «Лалик». В гостиной – черный кожаный диван, просторный и глубокий. На журнальном столике стеклянная столешница в четыре дюйма толщиной. Равельштейн иногда раскладывал на ней свои пожитки: золотую ручку «Монблан», часы за двадцать тысяч долларов, золотую штуковину для обрезания гаванских сигар, огромный портсигар, набитый «Мальборо», зажигалки «Данхилл», тяжелые стеклянные пепельницы, из которых торчали длинные поломанные окурки (сделав несколько лихорадочных затяжек, Равельштейн часто ненароком ломал сигарету). Всюду кучки пепла. У стены, на специальном стенде – сложный телефонный аппарат с кучей кнопок и лампочек, командный пост Эйба. Он гонял его и в хвост и в гриву, причем из Парижа и Лондона ему звонили не реже, чем из Вашингтона. Близкие парижские друзья обсуждали с ним даже самое сокровенное – секс-скандалы. Студенты знали: если Равельштейн защелкал пальцами, надо тактично удалиться. Он понижал голос и с любопытством расспрашивал о чем-то собеседника. Слушая ответ, он откидывал лысую голову на спинку дивана и поднимал к потолку глаза – они сосредоточенно блестели, рот слегка приоткрывался, длинные ступни в мокасинах вставали вплотную друг к другу. В любое время дня и ночи Равельштейн мог на всю громкость врубить Россини. Он питал к нему необычайную любовь – и к опере XVIII столетия в целом. У него было одно требование к итальянской музыке эпохи барокко: ее непременно должны были исполнять на аутентичных инструментах эпохи. За музыкальное оборудование Эйб платил огромные деньги – одни только его колонки стоили по десять тысяч долларов за штуку.
Жители всех квартир сверху и снизу вынуждены были вместе с ним слушать Фрескобальди, Корелли, Перголези и «Итальянку в Алжире». На жалобы соседей он с улыбкой отвечал, что без музыки жизнь невыносима, и на их месте он бы давно смирился и слушал. Однако Эйб обещал им сделать хорошую звукоизоляцию и действительно вызвал на дом инженера. «Я отвалил десять штук, чтобы прослоить стены капоком – и все равно мои комнаты не insonorisées» [8]. Впрочем, когда я начинал перечислять ему имена соседей, он не мог сказать доброго слова ни об одном из них, но о каждом имел четкое и обоснованное мнение. То были, на его взгляд, мелкие буржуазные ничтожества, обуреваемые тайными страхами и погрязшие в amour propre [9], всеми силами пытавшиеся создать в глазах окружающих некий благородный образ себя; плоские расчетливые личности (лучше уж «личности», чем «души» – с личностями еще можно что-то поделать, а вот мысль о том, что у этих людей могла быть душа, ужасала). Вся их жизнь сводилась к глупостям и показухе – они не испытывали никакой верности и любви к своему окружению, никакой благодарности, не имели принципов или идей, за которые могли бы положить жизнь. Ибо великие страсти, если помните, антиномичны. А великие герои человечества, чье грозное присутствие в наших сознаниях неистребимо, не имеют никакого отношения к обывателю, нашему «нормальному» заурядному современнику. Все люди, с которыми Равельштейну приходилось общаться ежедневно, вызывали в нем либо нежность и большую любовь, либо безграничный гнев. Он иногда напоминал мне, что слово «гнев» звучит в первой строчке Илиады – «Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына». Здесь взору читателя предстает несущая конструкция глубокого Равельштейнова мировоззрения. Величайшие герои мира – философы, – всегда были и будут атеистами. После философов у Эйба шли поэты и государственные деятели. Историки вроде Фукидида. Военные гении, как Цезарь, «благороднейший муж, кому в потоке времени нет равных», и Марк Антоний, его преемник на короткий срок, «один из трех столпов вселенной», поставивший любовь выше политики. Равельштейн любил классическую античность. Он предпочитал Афины, хотя безмерно уважал и Иерусалим.
То были фундаментальные идеи, на которых базировалась его личность и призвание. Если убрать их из мемуаров, то останутся одни лишь его странности и пунктики, безумное мотовство, роскошная мебель, излишества, хохмы и marche militaire [10], которым он пересекал университетский двор в своем роскошном, подбитом мехом кожаном пальто (лично я что-то подобное видел только раз в жизни – на Гасе Алексе. Этот гангстер и мокрушник, выгуливая собачку, щеголял по Лейк-шор-драйв в норковой шубе).
Время от времени я слышал фразу о том, что любимые студенты Равельштейна получали от него некий «заряд», что он был большой забавник и юморист. Однако «заряд» этот лишь на первый взгляд был юмористическим или развлекательным. На самом деле в аудитории Эйба происходил обмен жизненными силами. Странности и причуды подкрепляли его силы, и он делился ими, одаривал окружающих.
Равельштейн жил согласно своим принципам и идеям. Его познания были настоящими, глубокими, и он мог их задокументировать – в мельчайших подробностях. Он пришел в этот мир, чтобы помогать, наставлять и подвигать. И еще – чтобы сохранить величие рода человеческого даже в эпоху буржуазного благосостояния. Жизнь Равельштейна никак нельзя назвать средней или заурядной. Он не признавал скуку и серость. Не терпел депрессию, не выносил хандру. Все его беды носили исключительно физиологический характер. Например, однажды у него начались проблемы с зубами. В университетской клинике его уговорили вставить имплантаты – они внедряются непосредственно в костную ткань челюсти. Хирург завалил операцию; тогда, в стоматологическом кресле, Равельштейн перенес адские муки. Потом он решил выдернуть имплантаты, и эта процедура оказалась еще болезненнее, чем их установка.
– Вот что случается, когда за голову человека берется краснодеревщик, – сказал мне Эйб.
– Надо было тебе ехать в Бостон. Бостонские стоматологи-хирурги считаются лучшими.
– Никогда не доверяй свое тело паршивым специалистам, если не хочешь пасть жертвой их… э-э… мастерства.
Равельштейн не придавал значения порядку и чистоте. За день он прикуривал несчетное количество сигарет, но большую их часть либо забывал, либо ломал. Они лежали, точно белые мелки, в его роскошных стеклянных пепельницах. Организм его тоже был не в порядке, но продлевать свой век и не входило в цели Равельштейна. Риски, пределы, черная пропасть смерти давали о себе знать каждую минуту его существования. Когда он кашлял, из его груди доносилось загробное бульканье – так булькает в сточном колодце на дне нефтяной шахты.
В конце концов я перестал расспрашивать Эйба об имплантатах. Время от времени он, по всей видимости, испытывал болевые приступы, которые я стал воспринимать как часть его психофизиологического портрета.
Беспорядочный образ жизни и отсутствие какого бы то ни было режима привели к тому, что Равельштейну редко удавалось проспать всю ночь напролет. Он много готовился к лекциям и за этим делом засиживался допоздна. Чтобы доходчиво рассказать юным оклахомцам, техасцам или орегонцам о диалогах Платона, требовались не только знания, но и исключительные ораторские навыки. Спать до обеда Эйб никогда не умел. Никки, наоборот, мог ночами смотреть триллеры с боевыми искусствами, а потом отсыпаться до двух часов дня. Оба были баскетбольными фанатами и почти никогда не пропускали матчи «Чикаго буллз» по Эн-би-си.
На важные игры Равельштейн приглашал в гости студентов и заказывал пиццу – огромное количество коробок вносили в коридор, и квартира тут же заполнялась горячими ароматами орегано, томатов, сыра, пеперони и анчоусов. Никки, вооружившись круглым ножом, резал пиццу на куски и раскладывал по бумажным тарелкам. Мы с Розамундой ели сэндвичи, приготовленные самим Равельштейном – его руки в процессе готовки нетерпеливо дрожали, а сам он что-то весело орал. Когда подавались напитки, у присутствующих возникало ощущение, что на их глазах разыгрывается смертельный номер: с тем же успехом Эйб мог застыть на канате под куполом цирка с полным подносом стаканов. В такие моменты никто не отваживался не то что шутить – говорить.