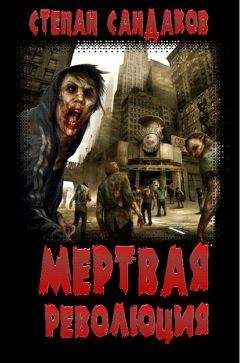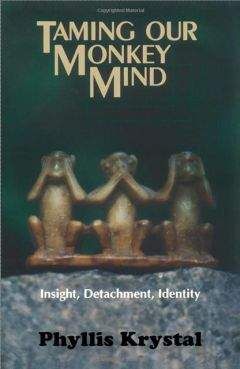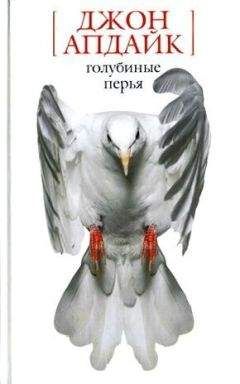Сол Беллоу - Равельштейн
«Не знаю, может, дело в еврейской нервозности или в твоем противоестественном желании всюду встречать радушный прием, – говорил Равельштейн. – А может, французы тебе кажутся неблагодарными. Но любому ведь ясно, что в Париже лучше, чем в Детройте, Ньюарке или Хэтфорде».
Впрочем, принципиальным это мелкое расхождение в наших взглядах назвать нельзя. В Париже у Эйба было множество прекрасных друзей. Его хорошо принимали в écoles и instituts, где он читал лекции на французские темы – изъясняясь на своем собственном диалекте французского. Сам он много лет назад учился в Париже у известного неогегельянца Александра Кожева, взрастившего целое поколение влиятельных мыслителей и писателей. Многие из них стали друзьями, поклонниками и читателями Эйба. В Штатах же он был противоречивой фигурой и нажил себе массу врагов, особенно среди социологов и философов.
Но мои познания об этом весьма скудны – все-таки я не специалист. Мы с Эйбом Равельштейном были близкими друзьями, жили на одной улице и почти ежедневно общались. Он часто приглашал меня на свои семинары – обсуждать литературу с его студентами. В былые времена наша страна еще могла похвастаться весьма широким кругом читающих людей, а медицина и право считались «учеными профессиями». В современной Америке ждать от врачей, адвокатов, бизнесменов, журналистов, политиков, телезнаменитостей, архитекторов и коммерсантов того, что они будут в состоянии обсуждать романы Стендаля или стихи Томаса Гарди, не приходится. Иногда можно встретить любителя Пруста или какого-нибудь сумасброда, выучившего наизусть «Поминки по Финнегану». Кстати, когда меня спрашивают про «Финнегана», я обычно отвечаю, что берегу его для пенсии. Предпочитаю встретить вечность в компании Анны Ливии Плюрабель, чем под болтовню Симпсонов.
Не знаю, какими словами лучше описать просторную красивую квартиру Равельштейна – его американский дом. Святилищем ее не назовешь: Эйб никогда не был затворником. Он очень хорошо устроился в Америке. Из его окон открывался прекрасный вид. В последние годы он мало пользовался общественным транспортом, но хорошо ориентировался в городе, говорил на его языке. Молодые негры останавливали его на улице и спрашивали, где он взял такой костюм, пальто или шляпу. Они разбирались в высокой моде, обсуждали с ним Ферре, «Ланвен», его портного с Джермин-стрит.
– Эта молодежь обожает все модное. Пижонские костюмы с пиджаками до колен и мешковатыми брюками ушли в прошлое. На автомобили у них тоже губа не дура.
– И на часы за двадцать тысяч долларов. А на оружие?
Равельштейн смеялся.
– Даже чернокожие девчонки останавливают меня на улице, чтобы похвалить костюм. У них врожденный вкус, на уровне подкорки.
Он всегда испытывал теплые чувства к этим знатокам – ценителям красоты.
Восхищенные взгляды чернокожих подростков помогали Равельштейну нейтрализовать ненависть своих коллег-профессоров. Бешеный успех его книги сводил ученых с ума. В ней Эйб указывал на фундаментальные изъяны системы, давшей им образование, ограниченность их историцизма, склонность к европейскому нигилизму. Равельштейн считал, что в Штатах можно получить блестящее техническое образование, а вот гуманитарное терпит полный крах. Мы попали в плен высоких технологий, преобразивших современный мир. Старшее поколение копит деньги, чтобы выучить детей. Получить степень бакалавра искусств стоит теперь сто пятьдесят тысяч долларов – большие деньги. С тем же успехом можно смыть их в унитаз, полагал Равельштейн. Достойного образования в Штатах не дают – если только вы не собираетесь учиться на авиационного инженера, компьютерщика и т. д. Биология и естественные науки преподаются на высшем уровне, а гуманитарные – хуже некуда. Философ Сидни Хук однажды сказал Эйбу, что философия умерла. «Наши выпускники работают в больницах – специалистами по врачебной этике», – признался он.
Книга Равельштейна вовсе не была эпатажной. Будь он очередным скандалистом, на него просто махнули бы рукой. Но нет, он писал разумно и аргументированно. Все тупоголовые страны объединились против него (как много лет назад выразился Свифт… или Поуп?). Хорошо, что профессура – не ФБР, не то они бы записали Равельштейна в особо опасные преступники и расклеили бы плакаты с его физиономией в общественных местах.
Он посмел обратиться не к профессорам и ученым сообществам, но напрямую к широкой публике. На свете миллионы людей, ждущих некого знака свыше. Многие из них – выпускники университетов.
Когда на Равельштейна нападали взбешенные коллеги, он говорил, что чувствует себя американским генералом, осажденным нацистами (где это было? В боях за Ремагенский мост?). Когда от него потребовали капитуляции, он проорал: «Хрен вам!» Конечно, Равельштейн расстраивался – а как же? И никакой помощи со стороны ждать не приходилось. Он мог положиться только на друзей – и, разумеется, на его стороне были несколько поколений выпускников, а заодно истина и справедливость. Книгу хорошо приняли в Европе. Англичане смотрели на него свысока. Университетские деятели находили ошибки в его греческом. Но когда Маргарет Тэтчер пригласила его в «Чеккерс», свой загородный дом, он был «aux anges», на седьмом небе. (Эйб всегда предпочитал французские словечки американским; он говорил не «дамский угодник», «бабник» или «волокита», а «un homme a` femmes».) Но и многие выдающиеся либералы были на его стороне.
В «Чеккерс» миссис Тэтчер обратила его внимание на картину Тициана: лев бьется в сетях, а мышь грызет веревки, желая его освободить. (Это ведь басня Эзопа?) Маленькая мышка давно стерлась, но ее спас от полного забвения один из величайших людей века – Винстон Черчилль. Он взял кисти и собственноручно дорисовал мифического грызуна.
По приезде из Англии Эйб усадил меня в своей гостиной и все про это рассказал. Он и сам покупал картины – кисти не слишком известных, но достойных французских художников. Некоторые были очень даже ничего. Самая большая – Юдифь с головой Олоферна. Всюду кровь, Юдифь держит отрубленную голову за волосы; полуприкрытые глаза Олоферна закатились, но лицо при этом спокойное, умиротворенное, чистое – как у святого. Мне иногда кажется, он так и не понял, что с ним произошло. Не самая скверная смерть, если хотите знать мое мнение.
Время от времени я спрашивал Равельштейна, почему он повесил на самое видное место именно эту картину.
– Да просто так, без задней мысли.
– Мы пытаемся все, что видим, истолковать с фрейдистских позиций. Вот скажи, что мы таким образом опошляем – его терминологию или собственные наблюдения?
– Тебя никто не заставляет играть в эту игру, – ответил Равельштейн.
Его нельзя было назвать большим ценителем «визуальных искусств», как говорят американцы. Полотна украшали его стены лишь потому, что стены предназначены для картин, а картины – для стен. Его квартира была великолепно обставлена, и картины он выбирал соответствующие. Разбогатев, он постепенно избавился от всех «старых» вещей – на самом деле вовсе не старых, конечно, а просто более ранних и менее дорогих приобретений. Даже живя на одну только университетскую зарплату, Равельштейн умудрялся покупать дорогие диваны и итальянскую кожаную мебель – на занятые у друзей деньги. Когда его книга очутилась на вершине списка бестселлеров, он отдал все старые вещи Руби Тайсон, приходящей чернокожей горничной. Разумеется, за перевозку вещей тоже заплатил он. Ему срочно требовалось свободное место для новой мебели, а ждать он не привык.
Должен сказать, что Руби на работе не перетруждалась. Она натирала серебро и регулярно перемывала кемперовский бело-голубой обеденный сервиз, стакан за стаканом полоскала хрусталь. Гладить она не гладила: его рубашки стирала и наглаживала прачечная служба «Америкэн трастворти». Они же чистили его костюмы и вообще занимались всей одеждой, кроме галстуков – те Равельштейн отправлял аэроэкспрессом парижскому специалисту по уходу за шелком.
Новые ковры и мебель прибывали безостановочно; старые гарнитуры, буфеты и прикроватные тумбы Руби наверняка отправляла своим дочерям и внукам. Старушка была богобоязненная и по телефону разговаривала в чопорной южной манере. Несмотря ни на что, она была очень предана Равельштейну: тот относился к ней с уважением и никогда не лез в душу. Чернокожая матрона пятьдесят лет проработала в университетских семьях и много чего могла порассказать об их шкафах и скелетах. У Равельштейна была неиссякаемая жажда к сплетням. Он ненавидел собственную семью и не прекращал попыток отлучить любимых студентов от родителей. Как я уже говорил, он поставил себе целью выбить из их голов вредоносные родительские взгляды, «стандартизированные заблуждения», насаждаемые безголовыми воспитателями.
Здесь читатель может неправильно меня понять. Не нужно путать Равельштейна с университетскими «борцами за свободу», коих было предостаточно в мои студенческие годы. Они якобы открывали вам глаза на буржуазное воспитание, которое вы получили в родительском доме – и от которого вас должен освободить университет. Эти свободолюбцы считали себя образцами для подражания, а порой и вовсе революционерами. Они болтали на молодежном жаргоне, отпускали длинные патлы и бороды. Эдакие хиппи и свингеры от науки.