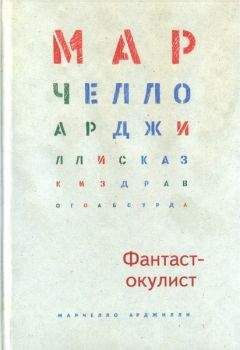Джо Питерс - Никто не услышит мой плач. Изувеченное детство
«Ничего такого не случилось бы, если бы ты не по явился», – говорила она по поводу малейшего нарушения ее правил, после чего на меня обрушивался очередной град ударов, она таскала меня за волосы. Мой рот был готов разорваться, но из него не вылетало ни единого звука. Горло отказывалось кричать.
Одним мрачным утром, всего через несколько месяцев после смерти папы, у мамы лопнуло терпение. Ей надоело, что ее сон нарушают. Она стянула меня за волосы по лестнице, крича во все горло: «В этот раз ты зашел слишком далеко, чертов маленький ублюдок. Ты меня вконец достал. Я больше не собираюсь это терпеть. С меня, черт возьми, хватит!»
Я действительно поверил, что она наконец собирается убить меня. Мать довольно часто говорила, что когда-нибудь сделает это. Под лестницей была дверь, которая, как я предполагал, вела в кладовку для метел; я никогда не видел, чтобы кто-то открывал ее или упоминал, что там находится, но мне предстояло вскоре это выяснить. Дотащив меня за собой по полу до двери под лестницей, мама распахнула ее. Я увидел еще одну лестницу, ведущую вниз, в кромешную тьму, и меня охватило дурное предчувствие. Что могло быть в кладовке? Может быть, туда мать отводила людей, которых собиралась убить?
Она включила свет, и я впервые увидел подвал. Правда, что это называется «подвал», я узнал позднее. Он не имел ничего общего с чистым, опрятным миром остальных комнат в доме. Здесь витал запах плесени и сырости, а единственным источником света была одинокая лампочка. Стены из грубого кирпича и необработанного дерева были во многих местах украшены паутиной. Мама толкнула меня и начала спускаться вслед за мной, подгоняя пинками и ударами. Внизу была еще одна деревянная дверь, большая и прочная, выполненная в викторианском стиле. Она открыла ее и швырнула меня внутрь последним сильным ударом, как будто я был мешком с соломой, потом включила еще одну лампу, и я смог увидеть весь ужас этого места.
В подвале не было ничего, кроме старого грязного матраса, прислоненного к стене. Мать не могла терпеть меня ни секунды дольше. Она захлопнула за мной дверь и выключила свет. Я слышал, как она чем-то блокирует ручку двери, чтобы я не смог выйти. После того как ее шаги на лестнице затихли, меня окружили тишина и мрак.
Сначала мне показалось, что я остался в кромешной тьме, но глаза постепенно привыкли, и я заметил несколько тонких лучей света, просочившихся через не обожженный кирпич высоко в стене. Этого было достаточно, чтобы я огляделся после наступления рассвета. Даже если бы мама не заперла меня, я осознавал, что не стоит пытаться открыть дверь и включить свет без ее разрешения. Холод пронизывал меня до костей, и я просто дрожал в темноте, оставшись в одних трусах и ожидая, что произойдет дальше. Я слушал, как поезда с грохотом проносятся мимо дома, мечтая иметь возможность забраться в один из теплых, светлых вагонов, которые я видел так много раз, и умчаться как можно дальше от этого места.
Я попал в мир, о существовании которого даже не догадывался несколько минут назад, в мир, который стал моей тюремной камерой на ближайшие три года.Глава 6 Заключение в тюрьму
Не думаю, что у мамы были какие-то далекоидущие планы по превращению этой маленькой темной подземной комнаты в мою тюремную камеру, когда она впервые впихнула меня туда и заперла дверь. На этой стадии на двери еще не было замка, он появился позже, значит, можно предположить, что мое заключение не планировалось заранее. Думаю, я просто надоел маме тем утром (надоел тот, в ком она видела испорченного и неугомонного ребенка) и она хотела убрать меня с дороги и преподать мне урок раз и навсегда. Но стоило мне однажды попасть в «клетку», как мать поняла, что это идеальное место для меня. Она случайно нашла выход: я совершенно не попадался на глаза, но при этом в любой момент можно выплеснуть на меня злость и обиду, когда она больше не в силах их сдерживать. И держать меня в подвале можно, сколько ей заблагорассудится, ведь никто не спросит у нее отчета.
Когда пропадает ребенок, обычно паникующие и охваченные горем родные и близкие поднимают тревогу, но в моем случае именно они заставили меня исчезнуть, так что кто мог это заметить? Других людей, которые могли беспокоиться обо мне, например Мэри и тетю Мелиссу, мама прогоняла с самого начала. Они и не ждали от меня весточки.
В то время как другие дети играли на улице, греясь под солнцем, ходили в школу, заводили друзей и узнавали много нового, я сидел один в темноте. Насколько мне известно, никто из службы социальной опеки не спрашивал, где я или что со мной. Возможно, они приходили к матери, но ей удавалось убедить их, что все в порядке, рассказав пару-тройку сказок. Она могла сказать, что я переехал, но в этом случае, думаю, ей пришлось бы предоставить хоть какие-то координаты моего местонахождения, чтобы ее слова подтвердились. Мое имя должно было присутствовать в системе, ведь я наблюдался у врача, когда онемел, так что, по крайней мере, у меня должен был быть номер общественного здравоохранения или социального страхования. И я уверен, что мама получала пособие от департамента социального обеспечения за каждого члена многодетной семьи, ей было нужно каждое пенни из этих средств. Так как же все эти службы могли потерять меня из виду и не почуять неладное? Возможно, они были сбиты с толку тем, что я жил по двум разным адресам – у мамы и у Мэри. Или просто были слишком загружены. Не знаю, и вряд ли когда-нибудь это выясню.
После непродолжительного сидения на голом полу в первый день моего заключения, когда я старался расслышать шаги матери, спускающейся по лестнице, чтобы снова меня избить, я нашел в себе мужество встать и расправить матрас на полу. По крайней мере, на нем было удобнее лежать. Я чуть не свалился от спертого, влажного зловония, которое источал матрас. Оно заполнило мои легкие, заставляя хрипеть и задыхаться. Хотя матрас был полон неровностей и острых выступов, я с облегчением перебрался с жесткого, холодного бетона. Я был настоящим хлюпиком, так что и такое улучшение условий было для меня значительным.
Я лежал, уставившись в темноту, и через некоторое время у меня появилось желание пописать. И оно все росло. Я не опустошал мочевой пузырь с прошлого вечера и чувствовал, что он переполнен. И это больно. Я не представлял, сколько времени проведу здесь, и уж точно не решился бы постучать в дверь и попросить помощи или попытаться открыть ее и пробраться наверх в кромешной тьме. Зная, как мама злится, когда я случайно писаюсь, я старался держаться, но боль со временем становилась все сильнее. Мне пришлось сдаться, и я помочился на пол. И даже когда приятное чувство облегчения распространялось по телу, я думал о том, что у меня будут большие неприятности, если мама заметит лужу. Я надеялся, что она не вернется, пока лужа не высохнет, но чувствовал, что это маловероятно. Моча добавила в воздух новый запах, и, хотя я испытал сильное облегчение, в то же время почувствовал себя еще более грязным. Я снова лег на матрас и ждал, что же произойдет, размышляя, настал ли мой конец и буду ли я брошен здесь один, обреченный на смерть от голода и жажды.
Несколькими часами позже я услышал шаги на лестнице, и в моей «камере» неожиданно загорелся свет, почти ослепив меня. Когда мама открыла дверь и вошла, я сразу заметил по выражению ее лица, что она почувствовала запах, и отпрянул, готовясь получить взбучку.
– Ах ты маленькая грязная дрянь! – прорычала мать. Ее губы в отвращении искривились. – Ты даже не приучен жить в доме.
Как и ожидалось, она взбесилась, ведь я посмел запачкать ее дом. То, что это был его самый дальний, грязный и забытый угол, не считалось. Вооружившись новым поводом разозлиться, мама стащила меня с матраса за волосы и сильно избила.
Все еще крепко держа меня за волосы, она опустила меня на колени и изо всей силы макала лицом в лужу мочи, как будто я был крайне упрямым щенком, которого хотели научить больше не гадить. Мать толкала меня с такой силой, что я боялся, как бы она не сломала мне нос.
– Маленький грязный ублюдок! – кричала она, возя меня по луже лицом, а потом позвала Уолли: – Принеси гребаную швабру и ведро!
Когда Уолли второпях спустился к нам, мать со всей силы швырнула швабру в меня.
– Мой, – приказала она.
И смотрела, как я работаю, периодически отдавая указания: «Три сильнее! Больше воды!» Потом она повернулась к Уолли:
– Принеси еще два ведра холодной воды. – И он послушно вернулся наверх, чтобы вылить грязную воду.
Я думал, маме нужна свежая вода, чтобы ополоснуть пол, но как только Уолли принес ведра, она отправила его к себе, а потом окатила меня водой из обоих ведер. От холодной воды у меня перехватило дыхание.
– Ты воняешь, – прорычала мама. – Маленький грязный ублюдок!
Она оставила одно ведро, чтобы я использовал его в качестве туалета. Дверная ручка снова была заблокирована с другой стороны, а я – брошен один в темноте. Я дрожал на мокром матрасе и чувствовал себя самым одиноким существом в мире. Что со мной случится? От чего я умру раньше: от холода или от голода?