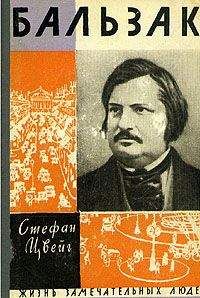Стефан Цвейг - Жозеф Фуше
Такое грязное дело предстоит совершить уже в первые дни. Правда, находясь в изгнании, король торжественно обещал амнистировать всех тех, кто в течение "ста дней" служил возвратившемуся узурпатору. Но после обеда рассуждаешь иначе: только в очень редких случаях короли считают себя обязанными выполнить то, что они обещали, будучи претендентами на престол. Злобные роялисты, гордые собственной верностью, требуют, чтобы теперь, когда король уверенно сидит в седле, были наказаны те, кто в период "ста дней" отпал от знамени, расшитого лилиями. Побуждаемый роялистами, которые всегда более монархичны, чем сам монарх, Людовик XVIII, наконец, сдается, и на долю министра полиции выпадает тяжелая обязанность составить список осужденных.
Герцогу Отрантскому это поручение не по душе. Должно ли в действительности наказывать людей из-за такой мелочи, из-за того только, что они, поступая благоразумно, перебежали на сторону сильнейшего, на сторону победителя? И, кроме того, он, министр полиции христианнейшего короля, не забывает, что первое место в таком списке должно собственно по праву принадлежать герцогу Отрантскому, министру полиции при Наполеоне, то есть ему самому. Его положение - бог свидетель! - мучительно. Прежде всего Фуше пытается хитростью избежать неприятного поручения. Вместо списка, в котором должно было значиться тридцать или сорок главных виновников, он приносит, к всеобщему удивлению, несколько больших листов, куда внесено триста или четыреста, а по утверждению некоторых, тысяча имен, и требует, чтобы были наказаны либо все, либо никто. Он надеется, что у короля не хватит на это мужества и, таким образом, с неприятным делом будет покончено. Но, к сожалению, в министерстве председательствует Талейран, такая же лиса, как и он сам, который тотчас замечает, что пилюля пришлась не по вкусу его приятелю Фуше; тем настойчивее стремится он заставить Фуше проглотить ее. Талейран безжалостно велит Фуше сокращать список, пока в нем останется лишь четыре десятка имен, и возлагает на него мучительную обязанность поставить свою подпись под этими приговорами к смерти и изгнанию.
Самым разумным со стороны Фуше было бы взять шляпу и закрыть за собой дверь дворца. Но уже не раз говорилось о слабости Фуше: этот честолюбец обладает всеми качествами ума, за исключением одного - умения вовремя сойти со сцены. Он скорее навлечет на себя немилость, ненависть и гнев, нежели добровольно оставит министерское кресло. Так появляется на свет, вызывая всеобщее возмущение, проскрипционный список, содержащий самые прославленные и благородные имена Франции, скрепленный подписью старого якобинца. Среди названных Карно l'organisateur de la victoire45 и создатель республики, маршал Ней, победитель в бесчисленных битвах, спаситель остатков армии, бежавшей из России,- все товарищи Фуше, бывшие с ним во временном правительстве, последние его товарищи по Конвенту, товарищи по революции. В этом ужасном списке, приговаривавшем к смерти или изгнанию, перечислялись имена всех, кто за последние двадцать лет покрыл Францию славой. Только одно-единственное имя отсутствует в нем - имя Жозефа Фуше, герцога Отрантского.
Или, вернее, оно не отсутствует. Имя герцога Отрантского стоит в документе. Но не в тексте, не среди обвиняемых и осужденных министров Наполеона, а в качестве подписи королевского министра, отправляющего на смерть или в изгнание всех своих прежних товарищей, как имя палача.
За подобное самоуничижение, которым старый якобинец запятнал свою совесть, король не может отказать Фуше в известной благодарности. И Жозефу Фуше, герцогу Отрантскому, воздают наивысшую и самую последнюю честь. После пяти лет вдовства он решил вторично жениться, и этот человек, некогда столь злобно жаждавший "крови аристократов", задумал теперь породниться с "голубой кровью", а именно - жениться на графине Кастеллян, аристократке высшего ранга и тем самым участнице "той преступной банды, которая должна пасть от меча правосудия", как он в свое время мило проповедовал в Невере. Но с тех пор взгляды былого якобинца, кровавого Жозефа Фуше, основательно изменились (чему было немало примеров), и теперь, первого августа 1815 года, он едет в церковь не для того, чтобы, как в 1793 году, разбивать молотком "позорные знаки фанатизма"-распятия и алтари,-а для того, чтобы вместе со своей благородной невестой смиренно принять благословение человека в такой же митре, какую он, как помнится, в 1793 году нахлобучил шутки ради на уши ослу. По старинному дворянскому обычаю,- герцог Отрантский знает, что приличествует случаю, если он берет в жены графиню де Кастеллян,- под брачным контрактом ставят свои подписи самые сановитые придворные. И в качестве первого свидетеля этот единственный в своем роде документ мировой истории подписывает manu propria46 Людовик XVIII - самый достойный и самый недостойный свидетель венчания убийцы своего брата.
Это уже слишком, вне всякого сомнения слишком. Такая сверхдерзость со стороны regicide, цареубийцы, который просит быть свидетелем при своем венчании брата гильотинированного короля, вызывает в дворянских кругах невероятное раздражение. Этот жалкий перебежчик, с позавчерашнего дня ставший роялистом, ворчат они, ведет себя так, словно он действительно принадлежит ко двору и благородному сословию. Кому, собственно говоря, еще нужен этот человек, le plus degoutant reste de la revolution, этот последний и самый грязный из отбросов революции, оскверняющий министерство своим омерзительным присутствием? Конечно, он помог королю возвратиться в Париж, он согласился своей продажной рукой подписать декрет, осуждающий лучших людей Франции. Но теперь с ним пора покончить! Те самые аристократы, которые в свое время, когда король нетерпеливо ожидал возможности вернуться в Париж, настаивали, чтобы он непременно сделал министром герцога Отрантского, дабы без кровопролития вступить в Париж, теперь вдруг больше не знают никакого герцога Отрантского; они упрямо припоминают лишь некоего Жозефа Фуше, который расстрелял в Лионе из пушек сотни священников и дворян и требовал смерти Людовика XVI. Внезапно герцог Отрантский замечает, что, когда он проходит через приемную короля, многие из дворян не раскланиваются с ним или с вызывающим пренебрежением поворачиваются к нему спиной. Неожиданно всплывают на поверхность и начинают переходить из рук в руки прокламации против Mitrailleur de Lyon; в новом патриотическом обществе "Francs regeneres"47 предки camelots du roi48 и "Пробуждающейся Венгрии" устраивают собрания и открыто требуют, чтобы расшитое лилиями знамя было, наконец, очищено от этого позорного пятна.
Но Фуше не сдается без боя, когда речь идет о власти: он впивается в нее зубами. В секретном донесении одного из шпионов тех лет можно прочесть о том, как он всеми средствами пытается укрепить свое положение. В конце концов в стране еще находятся те, кто низверг Наполеона: они смогут защитить его от слишком ярых слуг короля. Он наносит визит русскому царю, ежедневно часами ведет переговоры с Веллингтоном и английским посланником; нажимает на тайные дипломатические пружины, пытаясь, с одной стороны, завоевать расположение народа, протестуя жалобой против введения во Францию иностранных войск, и в то же время запугать короля донесениями о преувеличенной опасности. Он подсылает к Людовику XVIII в качестве своего заступника победителя при Ватерлоо; мобилизует банкиров, женщин и оставшихся у него друзей. Нет, он не желает уходить: слишком дорого заплатила его совесть за этот пост, чтобы не защищаться до исступления. И действительно, несколько недель ему, как опытному пловцу, который то ложится на бок, то переворачивается на спину, еще удается продержаться на политических водах. В продолжение всего этого времени, как сообщает тот же шпион, он держится вполне уверенно, и, возможно, уверенность на самом деле не покидала его. Ведь за эти двадцать пять лет он столько раз всплывал на поверхность!
Стоит ли тревожиться из-за каких-то там дворянчиков ему, кто справился с Наполеоном и Робеспьером! Старый циник давно уже не боится и презирает людей, ведь он перехитрил и пережил величайших людей мировой истории.
Но одного только не умеет этот старый кондотьер, этот утонченный знаток людей, да и никто этого не умеет: бороться с призраками. Он забыл, что при дворе короля, как Эриния, бродит призрак прошлого: герцогиня Ангулемская, родная дочь Людовика XVI и Марии Антуанетты, единственная из всей семьи избежавшая великого избиения. Король Людовик XVIII еще мог простить Фуше; в конце концов он обязан этому якобинцу своим королевским троном, а такое наследство утоляет иногда (история может это доказать) братскую скорбь и в самых высших кругах. Да ему и легко было прощать, потому что сам он ничего не пережил в те ужасные времена. Но у герцогини Ангулемской, дочери Людовика XVI и Марии Антуанетты, сохранились в памяти потрясающие картины ее детства. Воспоминания, которые живут у нее в душе, не забываются, и ничто не может смягчить ее ненависть. Слишком много перенесла она душой и телом, чтобы быть в состоянии простить этого якобинца, этого страшного человека. Ребенком, в замке Сен-Клу, пережила она тот страшный вечер, когда толпы санкюлотов, убив привратника, предстали в забрызганных кровью сапогах перед ее родителями. Потом она пережила вечер, когда их вчетвером, отца, мать, брата и ее-"булочника, булочницу и детей булочника",- втиснутых в телегу и каждую минуту ожидающих смерти, орущая, беснующаяся толпа волочила обратно в Париж, в Тюильри. Она пережила 10 августа, когда, выломав топорами двери, толпа ввалилась в покои ее матери, когда ее отцу издевательски нахлобучили на голову красную шапку и приставили к груди пику; она пережила жуткие дни в тюрьме Тампля и страшные минуты, когда к их окну подняли на пике окровавленную голову подруги ее матери, герцогини де Ламбалль, с распущенными, склеившимися от крови волосами. Как может она забыть минуты прощания со своим отцом, которого тащили на гильотину, и со своим маленьким братом, которого заморили и сгноили в темнице? Как ей не вспоминать о соратниках Фуше в красных колпаках, которые день и ночь допрашивали и мучили ее, вынуждая дать ложные показания в процессе против королевы, которую обвиняли в растлении своего малолетнего сына? Как изгнать из памяти то мгновение, когда ее вырвали из объятий матери, а потом по мостовой загрохотала телега, увозившая королеву на гильотину? Нет, ей, дочери Людовика XVI и Марии Антуанетты, узнице Тампля, эти ужасы известны не так, как Людовику XVIII, который знает о них лишь понаслышке, из газет, они как каленым железом выжжены в ее напуганной, омраченной и истерзанной с детства душе. И ее ненависть к убийцам отца, к мучителям матери, к страшным образам детства, к якобинцам и революционерам далеко еще не угасла, далеко еще не отомщена.