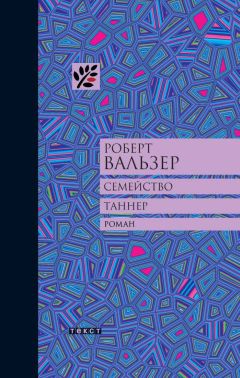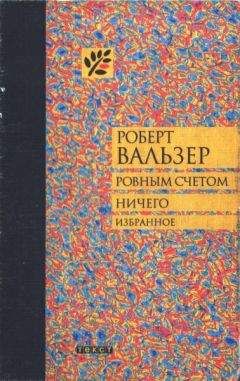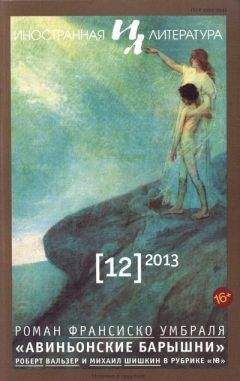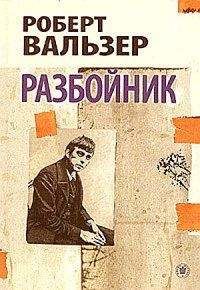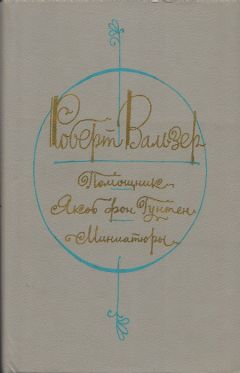Семейство Таннер - Вальзер Роберт Отто
После трапезы он, как велено, помогал служанке перемыть посуду и вытереть ее, и служанка изрядно удивилась, увидев, как ловко он управляется. Где же он этому выучился?
– Я ведь жил в деревне, – отвечал Симон, – а в деревне такое в порядке вещей. У меня там сестра, она учительствует, и я всегда помогал ей вытирать посуду.
– Очень мило с вашей стороны.
Глава двенадцатая
Симону казалось чудесным работать в этой тихой кухне посреди большого города. Кто бы мог подумать. Да, этому человеку все же было недосуг рисовать себе будущее. Раньше он свободно бродил по горным пастбищам, ночевал, ровно охотник, под открытым небом и находил атмосферу слишком душной, когда любовался панорамами, расширявшими и раздвигавшими землю под ним, раньше он мечтал, чтобы солнце было жарче, ветер – напористее, ночь – темнее, а холод – беспощаднее, когда в любое время года и в любую погоду бродил, ища невесть чего, потирая руки и тяжело переводя дух, теперь же он сидел в маленькой кухне, обсушивая еще горячую, мокрую тарелку. И был рад. «Я рад быть таким стесненным, скованным, ограниченным, – говорил он себе, – и почему только человеку всегда хочется простора, он даже тоскует по нем, а тоска стесняет! Здесь я втиснут в четыре кухонные стены, но в сердце у меня простор, оно наполнено удовольствием от скромных моих обязанностей».
Конечно, немножко унизительно для него сидеть на кухне, заниматься работой, какую обычно исполняют только служанки. Немножко унизительно и немножко смехотворно, зато, без сомнения, таинственно и необычно. Никому даже в голову не придет представить его себе в таком положении. И в этой мысли опять-таки присутствовала толика удовлетворения и гордости. Она невольно вызывала усмешку. Служанка спросила, кем он был прежде, и он ответил:
– Писарем!
Она не могла взять в толк, как можно иметь столь мало честолюбия, чтобы оставить конторку и удариться в домашнее хозяйство. Симон сказал на это, что, во-первых, ударяться, как она изволила выразиться, совершенно незачем, а во-вторых, еще вопрос, что лучше – сидеть за конторкой или вытирать посуду. Лично он предпочитает свободную, светлую, жаркую, полную испарений, интересную кухню унылой конторе, где воздух обычно спертый, а настрой ожесточенный. Здесь нет повода испытывать ожесточенность, здесь, где на противне томится жаркое, варятся овощи, исходит паром суп, на полке приятно поблескивают медные кастрюли, а тарелки дружелюбно звякают, когда случайно задеваешь ими друг о друга. Но быть слугою – это ведь так мало, не имеет никакого значения, возразила бойкая служанка. Да он и не желает значительности, кротко отвечал Симон. Она не стала допытываться дальше, однако решила, что он человек странный, непостижимый. Правда, подумала «он порядочный» и почувствовала, что он, «наверно, горазд многое себе позволять». Симон как раз закончил свою работу, когда в кухню вошла хозяйка и сказала ему идти за нею, она имеет для него поручение. «Какое такое замечательное поручение она мне приготовила?» – подумал Симон и пошел за нею.
– Сейчас, в послеобеденное время, никаких дел у вас нет, и вы можете почитать вслух мне и моему мальчику. Вы умеете читать вслух?
Симон сказал, что умеет.
Потом он целый час читал вслух, слегка сдавленно, но правильно, отчетливо, красиво выговаривая слова, взволнованным голосом, каковой свидетельствовал, что чтец сопереживал тому, что читал. Даме как будто понравилось, а мальчик целиком обратился в слух и в конце очень мило поблагодарил за удовольствие. Щеки у Симона пылали от возбуждения, и ему было весьма приятно услышать благодарность. Засим, не получив покуда никаких распоряжений, он направился в людскую, озаренную багряным светом вечернего солнца, и закурил у открытого окна.
– Мне не по душе, что вы здесь курите, – сказала вошедшая хозяйка.
Он, однако, продолжал курить, и она ушла, несколько рассерженная. «Я, конечно, понимаю, что ей это неприятно, но все ли во мне должно быть ей приятно? Курить я не брошу. Нет! Нет, черт побери! Пусть сюда явятся хоть два десятка дам и все по очереди запретят мне курить». Он разозлился, хотя тотчас опять помягчел и сказал себе: «Надо было выбросить сигарету, я вел себя нагло!»
В этот миг, когда он хотел продолжить беседу с самим собою, в коридоре послышался вскрик и громкий хруст упавшей на пол посуды. Распахнув дверь, Симон увидел хозяйку, которая молча, с огорченным видом смотрела на пол, на черепки фарфорового блюдечка, явно дорогого ее сердцу. Она взяла из холодильного шкафа кусочек торта и хотела отнести его на блюдце к себе в комнату, да уронила, непонятно как. Вероятно, легкий обман чувств или еще какой пустяк – вот беда и случилась. Когда дама заметила Симона, стоявшего у нее за спиной, ее огорченное лицо тотчас приняло сердитое и укоризненное выражение, и она сказала Симону тоном, который вполне передавал, что она чувствует:
– Соберите все это!
Симон нагнулся, собрал черепки. А при этом ненароком коснулся щекой платья хозяйки и подумал: «Прости, что я оказался свидетелем твоей неловкости. Вполне понимаю твой гнев. И признаю, что разбил блюдце, которое ты уронила. Да, разбил его я. И тебе, наверно, очень жаль. Такое красивое блюдечко. Ты наверняка его любила. Я очень тебе сочувствую. Моя щека касается твоего платья. Каждый черепок, который я подбираю, говорит мне: “Бедняга”, а подол твоей юбки шепчет: “Счастливец!” Я подбираю черепки нарочно медленно. Ты опять рассердишься, коли невольно это заметишь? Мне доставляет удовольствие, что злодейство совершил я. Ты мне нравишься, когда злишься на меня. Знаешь, отчего мне нравится твоя злость? Оттого что она ласковая! Ты ведь злишься оттого, что я видел твою неловкость. Должно быть, ты питаешь ко мне некоторое уважение, раз можешь осерчать, попавши передо мною в неловкое положение. Ты, высокая, передо мною, низким. С какой восхитительной злостью ты велела мне собрать черепки. А я вовсе не спешу их собирать, ведь мне хочется, чтобы ты посильнее разозлилась и осерчала, что я этак копаюсь с черепками, которые поневоле говорят мне о твоей неловкости, да и тебе тоже. Ты все еще здесь? Сейчас тебя, наверно, обуревают смешанные чувства: стыд, боль, гнев, злость, безразличие, досада, спокойствие, удивление и высокомерность, а еще масса мелких, безымянных ощущений, которые длятся не дольше секунды и которые не успеваешь толком прочувствовать, словно легкий укол, мимолетный аромат или взмах ресниц… Твое шелковое платье прекрасно, если подумать, что оно облекает женское тело, способное трепетать от волнения и от слабости. У тебя красивые руки, опущенные сейчас вниз, ко мне. Надеюсь, когда-нибудь они влепят мне пощечину. Ты уже уходишь, не выбранив меня. При каждом шаге твое платье, касаясь пола, хихикает и шепчет. Давеча ты запретила мне курить. Но я буду дерзко курить, шагая за тобой на рынок за покупками. Ты увидишь, как я курю ослепительно белые сигареты, и надеюсь, тогда тебе достанет присутствия духа выхватывать их у меня изо рта. Вот только что мне пришлось всеми способами, что имеются в моем распоряжении, просить у тебя прощения за то, что ты разбила блюдечко. Ах, если бы мне подвернулась оказия натворить что-нибудь такое, что бы заставило тебя послать меня к черту. О нет, нет! Что это я надумал. С ума сошел. Поистине история с черепками лишила меня рассудка. На улице теперь свечерело. Фонари озаряют светло-желтым светом угасающий день. Мне хочется на улицу. Да, надо непременно выйти на улицу…»
– Я бы хотел немножко прогуляться, – сказал он, входя к ней в комнату, – можно?
– Да! Только недолго!
Симон устремился вниз по лестнице, где какая-то женщина под вуалью проводила его удивленным взглядом, выбежал из дома, на улицу, на воздух, в подвижную, влажную, сверкающую, вечернюю свободу. «Как странно, – думал он, – быть привязанным к дому, где живешь ровно пленник. Странно, ты взрослый человек, а должен идти к даме, в темную комнату, где эту даму впотьмах едва видно, и просить позволения выйти на улицу. Будто ты ее мебель, предмет, покупная вещица, пустяк, будто пустяк этот вовсе ничего не значит или что-то значит только потому, что годится быть ее пустяком, ее вещицей! И опять же странно, что тем не менее чувствуешь себя уютно, как в родном доме. Собственно, ступаешь по улице вдесятеро торжественнее, потому что тот, у кого пришлось спрашивать позволения, разрешил. Просить разрешения – в этом есть что-то школярское, однако ж, – думал он, – даже старики нередко, причем в более унизительных обстоятельствах, вынуждены спрашивать разрешения. Все в жизни так чудесно, а с чудесным надобно мириться, пусть даже оно зачастую выглядит странно».