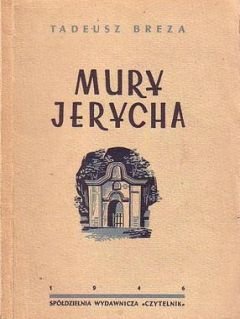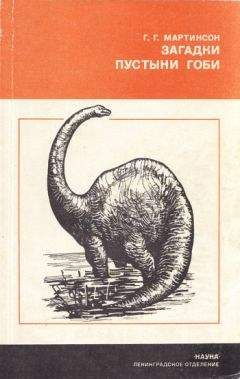Тадеуш Бреза - Стены Иерихона
- Вы носитесь с секретами, словно полудева с целомудрием, - сказал ей как-то Чатковский, который видел ее насквозь.
Но за организацию он не беспокоился. Ибо Кристина умела примешать столько домыслов к капле правды, которую она выбалтывала, что толку от этого не было.
Ельский уже некоторое время держал Кристину за руку.
Теперь он сжал ее.
- Нельзя, - сказала она, - иначе мы плохо будем выглядеть вечером.
Ельский поморщился.
- Всякий раз, когда действительно бывает нельзя, - заговорил он, надувшись, - вы по первому прикосновению догадываетесь, чего мне хочется. А как только в принципе можно, вы не желаете понимать.
Кристина подняла глаза, словно была уверена, что если внимательно рассмотрит Ельского, то поймет наконец, почему так получается. И опять ее поразила какая-то торжественность в нем, какая-то временность доброты его лица. Будь он убогим, он воззвал бы, как то умели другие, к ее материнскому чувству.
Будь он сильным, он пробудил бы в ней жажду подчинить его себе. Физически он немного ей нравился, только вот из этой искры огонь не разгорался. В общем-то телесная приманка для Кристины-это да, но для ее слабостей-никакая! Как в луне, как в актере, как в пьянице, чувствовалось в силе Ельского и в его блеске что-то преходящее. Тот вечер, когда из ее квартиры он звонил на службу! Что же такое сказал ему дежурный чиновник, если он моментально угас. Спустя секунду он был уже жалким, достойным сочувствия, вся энергия из него улетучилась, так же как до того-может был чересчур самоуверенным и предприимчивым. Кристина насупилась, вспомнив тот вечер. Как он после этого телефонного звонка жался к ней. Не хотел и слова сказать: выкидывают его или еще что. Так или иначе, нельзя вот так вдруг превращаться в ребенка, если до того беспрерывно твердишь, что будешь для женщины опорой. Ничего из этого не выйдет!
- Ах, боже, боже! - вздохнула она и погладила его руку. - Расскажите-ка лучше поскорее, что было, тогда мы еще и переодеться успеем. Словом, прежде всего, зачем вы ездили?
Об этом Ельский говорить не мог.
- По служебным делам, - ответил он. - Такая там скучища! - Выражение это он перенял у Кристины.
- Скучища! - повторила она. - Все равно, вечно эти ваши секреты. И где это все? Можете сказать? - Это он мог. В Бресте.
Глаза у Кристины заблестели. - Из-за Черского? - спросила она.
Ельский сказал, что нет.
- Во всяком случае, не из-за, - рассмеялся он. И тотчас вспомнил: - А этот Сач у него, вы его знаете, что он за тип?
Кристина возмутилась.
- Никакой он не тип! Парень первый сорт. Это я его отыскала!
- И подсунули Черскому!
- Вот именно! - Два эти слова Кристина произнесла резким тоном, вызывающе надменно, к чему она обычно прибегала, когда ей приходилось признаваться в собственной вине.
- Способный? - продолжал допрашивать Ельский.
- Прекрасный! - слово это вырвалось из ее уст со свистом.
словно ветер зашумел в лозе.
Ельский покрутил головой.
- Вы свою молодежь толкаете на скользкую дорожку. Это вас развратит.
Она возразила, набросившись на Ельского с упреками:
- Вам бы надо было получше запомнить его, тогда бы ны гак не говорили. В нем, в этом спокойном, флегматичном мальчике.
настоящий вулкан. Он взялся за эту работу не ради карьеры.
Забился в лесную берлогу, выслеживает Черского, словно собака.
Вы помните Аню Смулку? - ни с того ни с сего спросила она.
Ну да, он ее помнил, так что из того!
- Это ее жених!
Ельский все понял. Черский был тем человеком, который застрелил отца Смулки. Правительство замяло эту историю. От вдовы оно попыталось отделаться концессией. Та с тяжелым сердцем-а что было делать-принялась за продажу предложенного ей спирта. Аня, когда подросла, велела отказаться от концессии. И этого ей было мало. Не просто разорвать пакт с убийцами. Она поклялась отомстить им. И сердце ее сладко щемило от счастья, которое привалило бы ей, коли с Черским стряслось что-нибудь худое. Да еще из-за нее!
- Только, миленький вы мой, - стала ластиться к Ельскому Кристина, готовая сгореть со стыда. Опять этот ее длинный язык! - Бога ради, ни словечка, прошу вас. Если Черский узнает, что они знакомы, все пойдет насмарку.
- Вот тебе и Смулка, - задумался Ельский. Словно дочь кастеляна' из средневековья отдает свою руку тому, кто убьет Черского.
Но Кристине было не до шуток. И зачем ей только пришло в голову разболтать об этом жениховстве. Все Ельский, он из нее вытянул. Всегда он так. И в глазах ее уже вовсе не было и тени страха, одна злость. На свое счастье, Ельский совершенно успокоил ее.
- У нас в кружке есть специалист по мелиорации Полесья.
Чем скорее Черский свернет себе шею, тем лучше. У нас тоже свои масоны. Молодые!
И он взял кусочек торта, по затем отложил его. Он вдруг вспомнил стол у Штемлеров. И Дикерта, который превосходил его тем, что умел есть на приемах. Не терял головы, не метался, не болтался без толку, не хватал, что попадется под руку, но спокойно и основательно выполни;! программу, которую он формулиро(;ал сразу же, бросив взигяд на стол. Накладывал, брал приправу, отходил в сторону, не в одиночестве даже-зачем же в одиночестве! - но всегда внимательнее следил за логикой кушаний, нежели беседы. Ельский же суетливо что-то кому-то подавал, что-то нарезал, ел без аппетита, сам не зная, то ли оттого, что уже наелся, то ли пришел из дому сьггым.
- Сегодня кутят Штемлеры, - сказал он мрачным тоном человека, временно постящегося, но приглашенного на пирушку. - Конечно же, будет Яшча, а может, и Дитрих.
Два члена кабинета! Черский третий, который, кто знает, не выше ли еще, хотя и не занимает министерского поста. Это, я понимаю, прием! Ельский и Кристина помолчали, размышляя над этим, так молчат, войдя в костел. Всерьез воспринимая не самих лиц, но воплощенную в них власть. Сердце у Кристины застучало, однако не так, как сегодня утром, когда обсуждалось нападение на Яшчу, министра юстиции, который в последнее время что-то уж очень рьяно взялся за националистов. Он отказывался выпустить целую группу арестованных боевиков, взятых в Лодзи, когда они напали на митинг социалистов. Утренняя ее злоба, все ее возмущение, тогда ее охватившее, не прошло совсем, но, словно отодвинувшись в сторону, на маленький огонь, уже не кипело, а остывало по мере приближения часа встречи с этим чиновником.
А Дитрих, которого, как публично заявил Дылонг, "по мнению националистов, осквернила еврейка-жена", сейчас вместе с нею, урожденной Кон, в нетерпеливом воображении Кристины то исчезал, то появлялся вновь, бросая ее в радостную дрожь или заставляя больно заходиться ее сердце по мере того, как то он, казалось, точно прибудет к Штемлерам, то опять обманет их ожидания. Кристина в сегодняшней статье и в приговоре, вынесенном этому министру, которьш каждый вечер ложился в оскверненную постель, не изменила бы ни слова не оттого, что была так тверда, а оттого, что была удивительно рассеянной. Как тот, кто условливается о встрече, а затем забывает сказать о самом главном, так и Кристина, встретясь с каким-нибудь министром, тотчас забывала о том, о чем она думала, о главном-о собственном своем мнении, что все они дрянь.
- Ого-го! - И голос ее дрогнул. - Целых два!
Ельский низко склонил голову. Да, два. Для него это тоже было делом серьезным. Присутствие министра! Сгущение реальности, иная цена жизни, гораздо более высокая, насыщенное время, отсутствие скуки. Он знал их всех. Почти не бывало дня, когда бы он не видел премьера, хотя чаще всего из окна. Но министр-все равно, в каком виде: или вылезающий на дворе из автомобиля, или гораздо более осязаемый, когда он дает какоенибудь задание, - министр неизменно оставался для Ельского центром тяжести, самой чувствительной точкой, вечным магнитом, притягивающим к себе его глаза, уши и мысли. Если даже это и был мистицизм, Ельский его оправдывал; точно так же любая шутка о членах правительства его коробила. Он смирился с тем, что сам был каким-то не таким! И потому, хотя он и не без некоторой грусти смотрел на жизнь, как она есть, улыбался, когда ему повторяли остроты из политических кабаре, но делал он это с навязываемой самому себе снисходительностью, как нередко поступают, несмотря на всю ученость и терпимость, священники, читая средневековый текст, нашпигованный самыми грубыми издевками над церковниками.
Ельский взглянул на часы.
- Да, да, два, - подтвердил он и, не отрывая глаз от циферблата, мысленно рассчитывал время.
Разумеется, на вечер он должен прибыть минута в минуту. На переодевание он щедро дал себе час. В такой день надо быть внимательным к каждой складочке. Так что пора было идти. Но Кристине это еще не пришло в голову. Одна нога тут, другая там, напялив какое-нибудь платьишко, напудрить нос, какие еще церемонии! Ельский наизусть знает эти слова. И здесь Кристина не далека от правды. Одевается она так стремительно, в последнюю минуту, сразу же и готова идти, только вот чаще всего с опозданием на час. Сама мысль о необходимости причесаться или принарядиться оскорбляет ее. "Для кого это еще", - высокомерно заявляет она. Но даже тогда, когда она, как сегодня, хотела выглядеть хорошо, она не в состоянии принудить себя к старательности, словно литератор, который не в силах заставить себя переписывать начисто письмо любимой. Это неестественно и излишне! Так и Кристина не раздумывает над тем, во что ей одеться. Открывает шкаф и запускает в него руки.