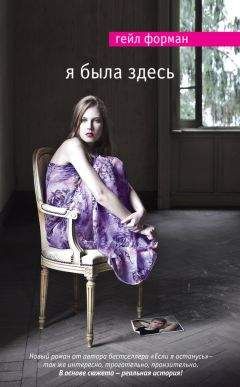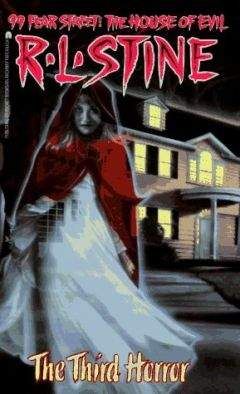Видения Коди - Керуак Джек
Эти воображенья привели меня назад к моей единственной и первоначальной цъели.
Грязные старые подгляды. Эти грязные старики на Таймз-сквер, которых мы все ненавидим, кое-кто из них пытается сделать мальчиков, не только девочек, и они уродливейшие старые развратники, от них поневоле вспоминаешь арабскую поговорку «Молодуха бежит старика» – они носят шляпы, зачем все время носить шляпы! – ошиваются у входов в подземку, маленьких книжных магазинов, библиотечных парков, шахматных галерей – рыщут туда и сюда – некоторые до того безвредные, что не замечаешь, что они такое, покуда не останавливаются перед тобой (скажем, когда опираешься на зданье), стараясь выглядеть как бы между прочим, однако отчего-то с их грязными старыми твердоштанами, направленными на тебя, словно сглаз, худу, нацеленное на человека, идущего вниз по Дофин-стрит умирать – Тем не менее у нас с Коди та же душа, и мы знаем, что́ они делают, мы с ними стояли у окон грязных киношек с одного побережья до другого – Ну и вот потому, все это была лишь оправдательная преамбула, и я добавлю (по крайней мере, своих собственных) дурацких оттягов: (анчоусы с каперсами в оливковом масле так питательны, что забивают горло, так солоны, что давишься, так крепки, что, кажется, проникают сквозь жесть банки и дают ей вкус, пока сама жесть не становится на вкус солонее любой соли, металлической солью, солью Армагеддона) – (это пример из еды) —
Нас с Коди непрерывно интересуют картинки женских ног – маленькие черно-белые книжечки, затиснутые средь многих в витрине книжного на Таймз-сквер или Кёртис-стрит, влекут нас поглядеть штуку в мертвенном белом, как-то интересует нас больше цвета, в черном и белом бедро еще белей, фон еще темней и злей —
Коди говаривал: «Возьми эту картинку, я ею уже попользовался». У меня есть портретики Рут Мейтайм (знаменитой холливудской актрисы) и Эллы Уинн, и я это обожаю – что за неимоверно славные сиськи у Рут, одна лямочка ее костюма спустилась, другая хлипка, они очень низко тянутся, потому что груди у нее низкие, тяжелые и сильно тем самым растягивают лямку еще дальше (ах лямочка моя!) – ее левая грудь занимает меня на тротуаре Таймз-сквер на пять безымянных бессознательных минут, и не сама грудь ее притом, а просто ее картинка, такая она обширная, тяжелая, три пятых скрыто, что лучше любого другого процентного соотношения, соску не грозит высунуться, а грозит тому рубежу, на котором мягкий томливый выступ может всплюхнуться наверх, чуть ли не наружу – Элла сокрыта, как полагается, видна богатая восхитительная мягкая живая долинка, а затем бугор ткани, следующий священным контурам, которые знаем мы все – но у Рут оно так, словно бы Элла была стриптизеркой, которая начинала представление, а Рут шла следующим шагом – приспускала ткань, но лишь один ее край, и значит, вместо являемой одной четвертой верхней левой части груди (с долинкой) мы теперь видим расширяющиеся три пятых полной верхней части груди с долинкой – Ах, те роскошные груди – я стою средь истовых грязных стариков мира, жую резинку, как они, с ужасным бьющимся сердцем – Едва в силах думать или держать себя в руках – я даже знаю, что это бесконечно восхитительней, нежели трогать саму грудь Рут (хоть отдал бы что угодно за такую возможность) – Но еще, еще про саму грудь – всю свою жизнь я грезил на гру́ди (и, конечно, бедра, но сейчас мы говорим о грудях, придержите свою Венеру, мы говорим о Марсе, а также воды свои, мы говорим о млеке) – неприличные журналы мальчишества становятся религиозными публикациями мужчинства – прекратить шутки – один рывок за ту ткань, и огромная грудь с плюхом вывалится, вот какая штука меня здесь удерживает и всех этих распутников заодно, некоторым девяносто, держит нас в плену и особенно потому, что мы знаем, такого никогда не случится, это лишь картинка, но ЕСЛИ Б! – Случись так, великолепная прыгучая желе-подобная белая-как-снег странная Рут-личная грудь с безымянным, но красноречивым соском, что расскажет нам все, что нам нужно знать (точный сосок этот скажет нам больше, чем вся история жизни Рут: «По салонам красоты Бруклина во время Второй мировой войны странную энергичную молодую даму начали замечать персонажи, который частенько наведывались в такие места днями и ночами, и даже случайные посетители…» – первый же взгляд на это, и мы наконец увидели ее душу, ее совершенство и несовершенство ее, ее исповедь, ее тайный девический стыд, что лучше всего, чего мы хотим) и всё, о чем мы целую свою жизнь задавались вопросами насчет Рут, говоря о Рут как о женщине, которая привлекла наше внимание только своею славой, картинками, мужьями, и если она недовольна, то сама в этом и виновата, я ж не просил фотографировать три пятых ее живой груди, которые хочу втиснуть себе промеж губ, она сама предложила, и я уверен, бог вознаградит ее за это – Ах та грудь! она такая непарадная, она с нею просто пошла купаться, волосы у нее влажны, она режет тортик на яхте Оррина Уинна, Эдгар Боунз, идиот, миленько мужествует обок ее – рот ее скроен в то, что должно изображать улыбку, а на самом деле огромный кус желанья и содрогающегося чувственного огорченья (она действительно режет торт), и зубы у нее – как мои зубы, когда я подношу носик маленькой котейки к своему – Картинка эта черно-белая, эта грудь сера – в сером для меня больше реальности (и для Коди тоже), потому что я вырос на балконах дешевеньких киношек. Ах святые контуры, известные всем нам, мужчинам – Теперь, не оставляя этого, давайте обратимся к коленям. У Эллы колени виднеются – У Рут они под полотенцем. Вот все мы, распутники, обращаем обширные, рокочущие вниманья в теле но без военной музыки и без отдания чести, и без флага, если не считать Креста и Костей, на колени Эллы Уинн – они скрещены, что было б бессчастно, если б не будучи так маленькой миленькой ямочкой, что образовалась назаду верхней коленки – Я имею в виду под ногой (сладкой гладкой подногой, как брюшко теплокровной рыбы, но гораздо лучше). Ямочку эту, что есть просто складка между какой-то заднеколенной плотью и гладкостью внутреннего нижнего бедра, особенно стоит отметить, поскольку она, как ничто другое не могло бы, подчеркивает основную черту, коя есть самая нижняя часть колена, того колена, что перекрещено – великолепная штука про это колено в его глянцевитости, указывающей на текстуру плоти этой девахи и дальнейших текстур внутрь от глянцевитости (вновь бьется мое сердце!) к областям бедра, глубже, больше слепит, больше кружится голова, как в гору карабкаться, покуда сады ее души не станет слышно, и тебе не будет дадено право поглядеть ей в лицо вдоль и среди гор, чтобы увидеть, что за выраженье на нем рядышком с длинными прекрасными волосами в большой ленте – мы, распутники, уже на самом деле насилуем бедную девушку, в то время как крутая Рути не дала нам и половины такого шанса и угомонила нас, и мы вспрыгнули на ее подругу в трусливом возмездии. Мы бросаем взгляд на Оррина Уинна, как будто знали его вечно и узнаем его с улыбкой, то есть, признаем, что взгляд он устремил на воробья, т. е. сиську Рут, а не на Эдгара, как можно было б решить, если не смотреть пристальней, а Элла, такого не подозревая, улыбается тортовому ножику, хотя само по себе это странно и, быть может, бесконечно более садистично, чем Рут и ее скрипящие зубы – но Элла вообще милая малютка, и хотя мы все только что ее изнасиловали, по меньшей мере пригрозили так поступить, мы не хотим причинять ей вред. Мы также задаемся вопросом, бывали ль у этой четверки оргии и обмены, и честно надеемся на это, как могли б надеяться, к примеру, на Мир Во Всем Мире.
Мертвенные большие изображения огромно-ляжечных бурлесковых девах на перекресточных газетных ларьках днем и ночью вынуждают нас задерживать тротуарное движение. Следующей моей остановкой должна быть Франция (открытки на бульваре?) – но дальше и позже.
Так оно и было, будто раннюю жизнь Коди Помрея населяли призраки балок в копоти и сношенных старых деревянных досок железнодорожных мостов за складами, окалинных сортировок, где великие скопленья картонных коробок, что досаждали нарядчикам фабрик, стали лукавыми возможностями для бродяг – задворки того, что мы зовем центром города, безымянные тоннели, переулки, боковые ветки, платформы, пандусы, груды шлака, миниатюрные свалки, неофициальные стоянки, годные для убийств, мерзкие, тряпьем-покрытые пласы, какие видишь у подножья огромных краснокирпичных труб – та же труба, что озадачивала Коди многими грезливыми днями, когда он смотрел, как она опрокидывается вперед, покуда облака взметали ввысь воздух в готовности к крупному бедствию – как будто бы все это было – (и, разумеется, много больше, к чему дальше перечислять, а кроме того мы вернемся на других уровнях и более основательно) – эти штуки были необходимыми частями его первой вселенной, ее мебелью, совсем как маленький богатенький мальчишка в синем костюмчике для игр в каком-нибудь шикарном пригороде за Сент-Луисом стоит, в ноябре, под кручинными черными сучьями, глядя на вселенную, что необходимо и неизменно оборудована такими вещами, как фахтверки фронтонов в английском стиле, округлые облесенные подъездные дорожки для кварталов авеню, леса березы, проволочные ограды на заду тюдоровских гаражей, собаки-боксеры, велосипеды, зализанные авто, покоящиеся в сумерках перед теплыми огнями, горящими за шторами в доме в испанском стиле, стоящем двадцать восемь тысяч долларов, купленном страховым брокером, который днем рассекает по узким улочкам краснокирпичного центра Сент-Луиса возле рынков, где между ящичными фабриками видна река, зарабатывая себе на жизнь среди уловок всевозможных бедняков и бродяг, но не способный растянуть свои домашние косточки нигде в двадцати милях поодаль, на сушу от реки и нечистого города в частных парках, тихих кварталах – жизнь Коди, с приходом костюма и, следовательно, началом некоего иного взрослого существованья, что, например, достигло собственной своей зрелости, когда он также приобрел зимнее пальто у Уотсона или кого другого из банды, и тот безымянный жест, что есть у мужчин, стал его, когда они тянутся к чему-то у себя в кармане брюк и хлопсаванят пальто прочь, локти согнуты, голова набок, как управляющий театром впопыхах выходит в полночь, проверяя, на месте ли у него все ключи. С приходом костюма и этого взрослого жеста жизнь Коди в Денвере вступила во вторую стадию, и эта своим фоном имела, своей первейшей фокальною целью место, к которому он вечно несся, место, которое отец его знал лишь как бичара в кротком спотыкучем снизу-вверхом подходе либо ведал поэнергичней в молодости, но то был Де-Мойн и давно, не меньше и не больше краснокирпичной стены за красными неонами: в Денвере это было повсюду, куда б ни пошел он, и везде в Америке всю его жизнь, где б он ни был. То было в тайном пыльном месте за углом передней стены бильярдной, наверху у самых окон салона красоты на втором этаже, вообще-то в переулке или на пятачке между зданий шириной не больше фута или устеленного чем угодно, кроме самых затемненных обломков города, но его освещал ближний красный неон и отчасти из бильярдной ниже, оно показывало все до единой борозды кирпича, оно печально пощелкивало вкл-выкл огнями – в самом салоне красоты можно разглядеть нутро с его жирноголовыми силуэтами, ныне одержимыми красным и пустым, прозреть его насквозь сквозь окно за-углом, что, как и стена, скрывало, как столь многое в Америке на Главных улицах, а теперь даже на унылых пригородных, где конторы педикюрщиц и адвокатов возле пасторских домов и старых зданий с крюками над недействующей дверью на второй этаж без лестницы, которая старая дверь на сеновал и, может, человек в шляпе девятнадцатого века с круглой тульей, что висела на этом крюке, все это также пряталось за красными неонами нашей кпередуобращенной заметной отчаянно рекламируемой жизни. Новое одиночество, пришедшее к Коди с прибытием костюма и пальто, составляло разницу между сиденьем на перевернутом ведре в дымных вдохновляющих свалках субботнего утра на Проезде Санта-Фе, возле невероятно вдохновляющего перекрестка рельсов железной дороги «Д. и Р. Г.» [20], что целую милю протискивали долгий гладкий коридор сквозь худобу и чахлость свалочных задворок, куч мусора и вислобурые заборы, место, по крайней мере, дикого игривого обещанья, где тебе нужно только носить робу (как то место баночных джунглей, куда хотел вернуться «Мой слуга Годфри» после того, как до отвала наелся на Парк-авеню в неимоверно холливудьянской наивной Депрессионной кинокартине, что была притом наивно правдива, невыразимые виденья индивидуального), железнодорожные пути, что в голубом утреннем воздухе слетали от мазни свальнодымов чисто и проворно к горам дымки, зеленым берегам другого Эль-Дорадо, другого Колорадо, что было одиночеством, которое можно отвратить действиями сотни интересных закопченных мусорщиков, с трагической тяжкой важностью трудящихся среди скособоченных развалин и ржавокуч – разница между этим и стояньем посреди зимней ночи на тротуаре, который тебе не дом, под холодными красными неонами, тлеющими так же мягко, будто до сих пор лето, но теперь на краснокирпичной стене, коя избегает своей собственной отсыревшей и пробитой льдистости, разъеденная, вогкая от зимы, не то место, куда опереться одинокой спиной и несмотря на всю мрачность, ей присущую, она подразумевает бо́льшую, чем когда-либо могла летом и с бесконечным более взрослым возбужденьем, нежели свалка, радость, но радость настолько более сильную, чем радость свалки, что словно нужда человека в виски, подменяющая собой жажду мальчика к апельсиновой газировке, и потребовала для своего появленья столько же хлопот и лет, – радость ночи в центре города. Великие плакаты знаков, установленные на вершине низких гравийных крыш кегельбанов и сияющие яростно на фоне голых лысых спин безоконных складов, а то и, может, заполняющие прооконенные глаза гостиницы с их глянцами, блеском и, однако, спрятанный запредельный мрак этого погнал Коди в тайнейшем уме его, как и меня, и большинство прочих к дальнейшим проникновеньям во внутренние улицы, каньоны, пути, так похоже на то направление, что в уме принимает музыка или даже необнаруживаемый поток образов грез, от которых сновиденье становится трагическим таинством; и так вот стремясь, торопя все грезы в сердце его, вечно краснокирпичная стена за красными неонами, ждет. Что-то было там такое, что мы с Коди видели вместе в переулке в Шикаго много лет спустя, когда запарковали лимузин «кадиллак» в ненавязчивом черном уголке, направив его к улице; что Коди видел тысячу раз в стенах городков Айовы, Вёрджинии или Долины Сан-Хоакин; нечто, к тому ж, что безымянно соотносилось в его бедном измученном сознании с частью краснокирпичной стены, которую он всегда видел с гладкой старой скамьи комнаты ожиданья Окружной Тюрьмы, когда его отца арестовывали за пьянство на Лэример-стрит, вероятно, с пятью или шестью другими, взятыми en masse [21] со складского пандуса, дожидаясь своего предстанья пред судией, дабы воззвать к суду ради хоть какой-то толики милосердия к отцу его, клянясь, что он месяц до этого не пил, и вскоре будет произносить великие детские речи, которые иногда поражали людей, а впоследствии к нему привлекли внимание ювенильных властей, что пришли, стремясь помочь Коди, как Чудовище на помощь Красавице: кирпичная стена, вечно тускло тлеющая от темно-красного к серому уныло-красному, покуда где-то вспыхивал неон, видимая сквозь маленькое зарешеченное окошко на внутренней стене и где календари, изображающие индейских дев в лунном свете с бусами и обнаженными грудями, повергали Коди в недоуменье касаемо мира, что говорили о прекрасных сосенных островах и индейских любовных зовах, и Дженнетт Макдоналд, однако ничем этого не доказывали, кроме тюрем, арестованных отцов, далеких стенаньях, такающих часах и одной колом-вогнанной скорби по этой красной стене, испакощенной огнями, что предназначались улицам для официального прохожего, но спрятали что-то позади по некой печальной и бесчестной причине, слабо увязанной с тем, на что отец его иногда жаловался; и однако же имела способность, как любая старая кирпичная стена фабрики, если на нее направить белый свет выгрузки, а не красный сиянья столь же заброшенного, как бурый снег.