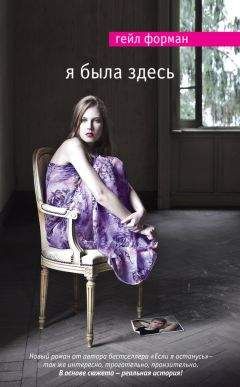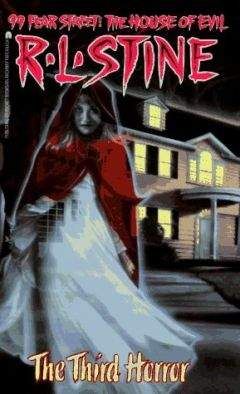Видения Коди - Керуак Джек
P. S. Дорогая Эвелин,
Я бы покорился немедля всякому твоему желанью, в том письме нескольких месяцев назад, выпади мне хоть полшанса – между больницей, неприятностями, необходимостью работать и зарабатывать $ и все хотят чтоб я напивался у меня не было представленья о том как вообще когда-нибудь доберусь до Фриско или же, невзирая на Кодино отчаянье касательно его одиночества на том уровне что ты упоминала, это для меня вообще возможно, мудро, целительно, и т. д. попробовать приехать любым старым способом; но теперь я собираюсь попробовать, фактически жалко что не попробовал тогда. Стало быть если Коди не рассказывает мне о своих ПОДЛИННЫХ неприятностях откуда мне это знать? Поверь, я страдаю точно так же как Коди от того что не вижу его хоть изредка – и приходится биться головой об общую пустоту когда я хочу кому-то что-то объяснить. В общем как бы там ни было Эвелин, надеюсь что по-прежнему желанен; я друг Коди, не бес его. А ты кстати не собираешься ли исчерпать все имена для детворы? Мы никогда не знаем куда направляемся.
2
По бильярдным Денвера во время Второй Мировой странного на вид мальчишку начали замечать персонажи, что часто захаживали в эти места днем и ночью, и даже случайные посетители, заглядывавшие поиграть в снукер после ужина, когда в атмосфере дыма и великого возбужденья все столы бывали заняты, и в переулке от задней двери одной такой бильярдной на Гленарм-стрит к задней двери другой проходил нескончаемый парад – мальчишку по имени Коди Помрей, сынка алкаша с Лэример-стрит. Откуда явился он, никто не знал, да и плевать поначалу. Герои постарше, иных поколений, омрачали собою стены бильярдных задолго до того, как там объявился Коди; памятные чудаки, великие акулы бильярда, даже убийцы, джазовые музыканты, разъездные торговцы, анонимные замерзшие бичи, что зимними ночами заходили посидеть часок у жара, и больше их никогда не видели, среди которых (и не вспомнит его никто, потому что никого там не было, кто любовно следил бы за большинством этих мальчонок, покуда те роились средь себя из года в год, и лишь случайно, но иногда призрачно узнавались лица, если они не строго местные персонажи из-за угла) был Коди Помрей-ст., кто в сезонно-скитальческой жизни своей, что обычно тратилась на шатанья по другим районам города, иногда как-то вваливался сюда и садился на ту же старую скамейку, которую впоследствии занимал его сын в отчаянных созерцаньях за жизнь.
Видали ль вы кого-нибудь похожего на Коди Помрея? – скажем, на уличном углу зимней ночью в Шикаго, а лучше Фарго, в любом мощно холодном городишке, молодого парня с костистым лицом, что выглядит так, будто его вжимали в железную решетку, чтобы получился этот упорный скалистый вид страданья, неколебимости, наконец, когда всматриваешься совсем пристально, счастливой чопорной веры в себя, с западными бачками и большими голубыми кокетливыми глазами старой девы и трепетными ресницами; маленький и мускулистый парняга такой, одет обычно в кожаную куртку, а если в костюме, то с жилетом, чтоб ему можно было воткнуть толстые деловые большие пальцы на место и улыбнуться улыбкою его дедов; кто ходит изо всех сил быстро, на пятках, говорит возбужденно и жестикулирует; бедный жалкий пацан на самом деле только что из исправительной школы и без денег, без матери, и если б вы увидели его мертвым на мостовой, а за ним бы стоял легавый, вы бы мимо прошли поскорей, молча. О жизнь, кто же это? Есть такие молодые люди, на кого смотришь, и кажется, будто им ничто не угрожает, может, просто из-за скандинавского лыжного свитера, ангелические они, вне угрозы; на Коди Помрее он тут же становится грязным краденым свитером, носимым в диких потах. Чему-то в его тигриной выдающейся вперед грубой лицекости можно было бы придать горестной меланхолии, если б только носил он поникшие усы (знаменитый боповый барабанщик, который в это время совсем походил на Коди, носил такие усы и, вероятно, по той же причине). Это лицо, что так подозрительно, так энергично запрокинуто, как у людей в паспорте или на полицейских снимках опознания, само по себе до того жестко, выглядит так, словно готово сделать нечто невыразимо бодрое, фактически настолько противоположность розовому мальчику, пьющему одну «колу» на рекламе скандинавского лыжного свитера, что перед кирпичной стеной, на которой говорится «Объявления не клеить» и слишком грязно для рекламки с розовым мальчиком, можете себе представить, как Коди стоит в грубой серой плоти, в наручниках между шерифами и Помощниками О. П. [15], и вам не придется спрашивать себя, кто тут виновник, а кто закон. Он вот так вот выглядел, и боже его благослови, выглядел он, как холливудский каскадер, который дерется на кулаках вместо героя, и у него такая отдаленная, яростная, анонимная злобность (мало что одиноче ее, и мы все это видели тысячу раз в тысяче дешевых киношек), что всяк начинает подозревать, потому что известно, в реальной нереальности герой себя так вести не станет. Если вы были мальчишкой и играли на свалках, Коди вы видели, всего чокнутого, возбужденного и полного ликующе-безумных сил, он хихикал с прыщавыми девчонками позади автомобильных крыл и сорняков, покуда какое-нибудь ПТУ не проглотит его драных блаженств и тот странный американский утюг, что позже применяется для лепки страдающего мужелика, теперь не приложится, чтоб разгладить и утолить долгую качкую спермяную неупорядоченность мальчишки. Тем не менее лицо великого героя – лицо, напоминающее тебе, что младенец выскакивает из великого ассирийского куста мужчины, не из глаза, уха или лба – лицо Симона Боливара, Роберта Э. Ли, молодого Уитмена, молодого Мелвилла, статуи в парке, грубое и свободное.
Явленье Коди Помрея в денверской бильярдной колготе в очень раннем возрасте было одиноким появлением мальчика на подмостках, что до гладкости истоптались сколькими-то битком набитыми десятилетиями, Кёртис-стрит и еще центр города; на сцене, которую украшало присутствие чемпионов, Пенсакольского Пацана, Уилли Хоппи, Летучей Мыши Мастерсона, который вновь проезжал через город, когда стал рефери, Малыша Рута, склонявшегося к удару в боковую лузу октябрьской ночью в 1927-м, Старого Быка Баллона, кто всегда рвал зеленку и расплачивался за нее, великих газетчиков, путешествовавших из Нью-Йорка в Сан-Франсиско, даже Желейный Рулетик Мортон, как известно, играл в пул в денверских салонах, чем зарабатывал на жизнь; и Теодор Драйзер, насколько мы знаем, задирал локоток в сигарном дыму, но были ль то цари-рестораторы в частных бильярдных комнатах клубов или же работяги с бурыми ручищами, только что с осеннего дакотского урожая, кто пулял по очереди за никель у Маленького Пита, все равно то была великая серьезная американская бильярдная ночь, и Коди явился на сцену, неся с собою оригинальный и погребальный ум свой, чтобы превратить бильярдную в штаб-квартиру обширнейшего воодушевленья ранних денверских дней своей жизни, став немного погодя постоянной задумчивой фигурой перед зеленым бархатом стола номер один, где замысловатые и чуть ли не метафизические щелчки и игра бильярдных шаров становились фоном для его мыслей; покуда позже вид красиво обратно-офранцуженного шара, подскакивающего в воздух после того, как залповый удар по другому шару прямо достиг цели, бам, когда он берет три мягких отскока и упокоивается на зеленом, стал уже не только фоном для дневных грез на весь день, планов и замыслов, но невыразимым постиженьем великого внутреннего радостного знания мира, что он начинал открывать у себя в душе. А ночью, поздно, когда бильярдные белеют и кричаще ярчают, а восемь столов вжаривают на полную катушку со всеми мальчишками и предпринимателями, что тусуются с киями, Коди знал, он знал все, как безумный, сидя так, словно ничего не замечает и не думает ничего, на жесткой наблюдательской скамье и, однако, примечая особое превосходство любого хорошего удара внутри ауры своего глазного яблока, и не только это, странности и жалкую типовость каждого игрока, будь он сверхнапыщенным пацаном с одиннадцатой или двенадцатой сигаретой, болтающейся из рта, или же каким-нибудь пузатым колдуном по-очереди, кто оставил одинокую свою жену в лакированной студийной комнатке над вывеской «Комнаты» в темноте Пёрл-стрит, он все это знал.