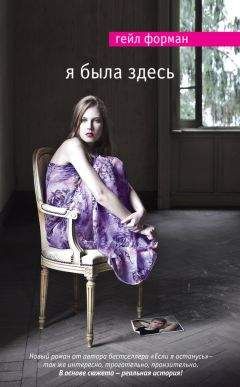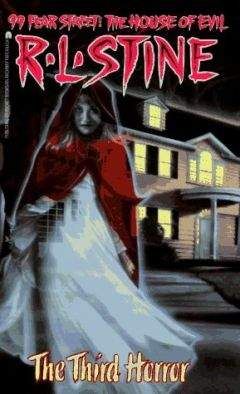Видения Коди - Керуак Джек
«Я, почти совсем как он, склонён, и впрямь падаю, я отказался почти совсем, как Лестер, ты бы сказал, но, конечно, но да, это уместно – он точно дуть мог – конечно, это просто музыка – я по музыке не впадаю больше в неистовство, конечно, у меня на уме только критика». Коди болтает, сурово костный в позе недвижности, прочная скала, осмотрительный скот, старый Ейц, будущий Достоевский негибких трагичных убеждений и раздраженностей. Ну и поколеньице. Ну и негритос. И та большая пустота над возлюбленной клонящейся главою земли, боже нас всех благослови.
Чарлз Эткинсон, певец в несравненной прозе, основанье современной прозы его грубейшие планы, предшественник «Невротики» и «Времени-Жизни», и всех чокнутых стилей, переводчик поэмы Шпенглера «Упадок Запада» – лавровый венок не меньше дилан, поэт холодных оро́шенных утр в серой Арс-Скотии! Хойл!
Помимо одной поездки, что Коди предпринял в Нью-Йорк и на Восточное Побережье, как будто б хотел в последний раз посмотреть, есть ли какая-то достойная слава, и решил, что это не так, он явился средь нас нипочему и без предупрежденья; с успехом осел в женитьбе с Эвелин на все последние полгода, что это еще раз привело его через все громадное расстоянье и почти-непостижимую Америку, Коди – проехав по льготным четыре тысячи миль южным маршрутом; сидя в дневновагонах, дуя в свою флейту-пикколо – чулки сняты, пересекая темную землю, дневную землю, пять дней и пять ночей ехал: Эвелин привезла его на сортировку, посмотрела, как он пересекает старые рельсы, сияющие так чисто на своей закопченной чернопостели, его котомка, снова упорно тянущая к востоку – «Ну, дорогая моя, привезу обратно Джека, как мы условились; ее увижу —» (Она рожала своего ребенка, третьего у Коди тогда из всех) «– и вернусь».
«Но зачем ты едешь?» – спросила бедная Эвелин. У Коди не было ни малейшего представления, и все его ответы были неудовлетворительны – но он поехал, и профлейтил по суше, как какой-нибудь Царь-ведьмак Дзэнзи в своем драгуне, и прибыл в Нью-Йорк точно в третий раз за свою жизнь. Как же далеко это от первой росистой поездки с розистой Джоанной в 1946! – те автобусные грезы, что делили они меж собою, невинность американских детишек; далеко даже от того раза, когда мы возвращались вместе с той поездки на «кадиллаке», когда, по меньшей мере, Коди надеялся использовать Нью-Йорк как порт на Италию и Европу, или что угодно, и потому налетел с треском так, как налетел, так быстро женился, так скоро вновь взорвался, теперь вернулся слепой и полый. Главным его лозунгом теперь было: «Больше не могу разговаривать», он заикался, едва, или вошкался, не делал ни малейшей попытки к чему-то осмысленному, когда говорил, и с тою же логической неуступчивостью, с какой раньше говорил неимоверными жеманными логиками со структурами, как своды законов и даже коринфские столбы снаружи: играл на своей флейте (та флейта на самом деле началась летом 1949 года, фактически почти в тот же самый день, когда мы вернулись и с кем же стакнулись в Нью-Йорке, на 116-й улице, Дылда Бакл и Том Уотсон, пере-прибывшими со своей поездки в Мэн, их психосоматический кошмар в земле, совсем как «мы с Коди», все братья под кожей, сидя в Риверсайд-Парке на лавочке все понурые, путешествующие типы западного омбре, занимающие по скамейке в городе Нью-Йорк в минуту, послушать птицу сумерек в мечтательном новом известном парке: Коди играл на флейте вместо того, чтоб ввинчивать Вики, китайской девушке (еще одна совсем другая Вики), то был отвратительный вечер, Ирвин обвинил всю компашку, включая меня, в намеренной жестокости к девушкам, также там была Рода, она мучилась, Большой Дылда, Том, старый бильярдный святой Том теперь старше и с бородой, и большими голубыми глазами, но отстраненный и уже больше не наставник Коди, а просто наблюдатель мальчика Коди Дылды, вспомогательные печали и курсом на личную уровневую могилу в годах покрасней, поломанней – в общем, всех нас, мы никогда в аккурат не юны, тридцатник сгодится, сороковник пойдет, полтинник пойдет, шестьдесят, семьдесят, восемьдесят пойдет, не больше – но в тот вечер, ничего, флейта) (и странно теперь Коди все меньше и меньше играет на флейте, факт тот, что дети в своих игрушках проглотили мундштук) —
«Но Коди, – говорю я: – я б вернулся с тобой незамедлительно, если б ты показал мне, как ты говорил, через семь недель – У меня нет накопленных денег, я не могу сейчас никакого грузовика купить». («Нимагу я построить никакого нового грузача на то, чё твой папаня мине прошлой осенью оставил, облом, так ты расслабься уж када-нить, если сможешь, и покажь мне, как наладить этот новый „Сирз и Роубэк“, чё я заказал, у меня тут мысль есть на дом в кузове или еще какая такая дурацкая прииичудь —»)
«Ню, – говорит Коди, – я тогда возвращаться один буду?» Похоже на то, странно – но он пробыл в Нью-Йорке всего три дня, я видел (фактически) его мало, был занят; он подключался к другим нашим делам… уже мы с ним больше не разговаривали, старые друганы ночи, опечалившейся, совсем как некогда буйные баскетбольные квинтеты встречались в печальных вестибюлях гостиниц зрелости со своими пристыженнолицыми женами (в Вустере). Он привез в нью-йоркскую зиму свое тяжелое пальто, мы шли мимо путей под тучами совершенного белого пара, и он сказал: «Уух! Я и забыл как холодно на Востоке, холодно, как сукинсын, черт. Я возвращаюсь себе в Калифорнию».
«Обратно к Эвелин, а?»
«Что ж еще, малец? Диана меня не примет; я пробовал, как мог, я умолял ее семь часов без передыху, живу в самом конце каторжной команды Уотсонвилля; почти каждое утро дома, получу ее, одна ночь с одной, одна с другой; женщины просто не понимают». И вот он вернулся к своей жене и дочерям.
«Не знаю, чего приезжал», – наконец бодро признал он; хотя он покончил с Нью-Йорком; тот не для Коди Помрея делан был. Нужен нагой дикий юный городок – если такой существует, если Фриско, я имею в виду Сан-Франсиско, ч – Мы хлопали в ладоши в сумраке – мы позировали для снимка на серой площади; Коди весь такой суровый и жесткочелюстный, рука сунута в карман «ливаев», как рукаfНаполеона вверх тормашками, и как у банкира Веселых Девяностых, и как длинный лесоруб в просторном горном городке, пальцы доской внутрь, большие пальцы по стойке вольно наружу, его большой твердоремень, рабочая рубаха сурова и даже военна, и большая квадратная гористая решимость и простота на лице (как у тупого кэнака), уже размотанные хмурости в голове его, заботы, морщины, тревоги, мощь мускулистого праведного согласья с собой… таков Коди.
«„Ты можешь положиться на меня“, чувак, вот как пластинка называется, – сказал Лайонел, – когда Лестер на самом деле дул и порождал это возбужденье, что было таким неимоверным, я тут в Соединенных Штатах никогда не знал ничего подобного – кроме разве что, быть может, наверно, чувак, сам знаешь, когда Коди, в своей последней поездке, когда он приехал низачем, и уехал обратно, помнишь? и мы все улетели на той балехе у Дени с Дэнни, и Ирвином, и сели в такси одной срубленной бандой, и мы были на пике, Коди дул, чокнутый, он говорил беспрестанно и с абсолютно безумно возбужденным согласьем, невероятная речь и болбот, от чего все мы загазовались… флюиды в таксомоторе, пока шофер ехал вверх по Седьмой авеню, были так неимоверны, что я думал – я не думаю, что водитель мог думать – что дальше – взрыв – Коди лупил, как десять человек с жестами и возбужденьями, он говорит: „Теперь послушайте, ребзя, э, превосходно зная“ (и хохоча свои чокнутым смехом, типа как, полный маньяк!) „но, и, если, э, да, ты, но, лана, чётам“, ты ж знаешь Коди —»
«Да», – сказал я; видел, как Лайонел той же ночью обмяк под стеной квартиры, изможденный, лицо его в какой-то миг посреди той ночи, столь Английское и восхитительное, стало настолько розистым в середине Кодиной речуги, (играя в крестики-нолики, Коди, Лайонел, Дэнни Ричмен и я на балехе у Дени Блё с розовыми лицами и тем безошибочно золотым давенпортом улета по Ч-езде), ныне исчерпанное, Коди просто исчез во вспышке каблуков добыть Джозефин, Лайонел говорит, тупо, как будто папу своего потерял: «Где Коди? Где Коди? Куда он ушел?» – и нам пришлось объяснять и утешать его на полу.