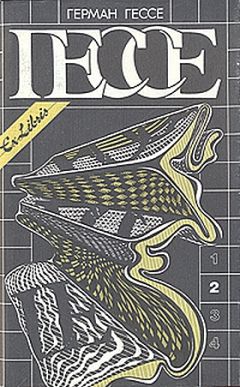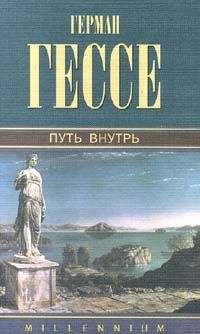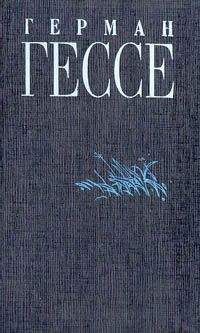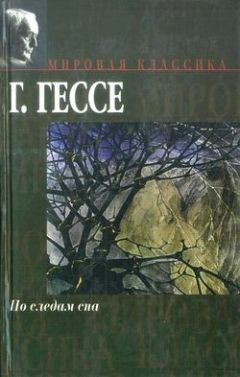Герман Гессе - Череда снов

Обзор книги Герман Гессе - Череда снов
Гессе Герман
Череда снов
Герман Гессе
Череда снов
Мне казалось, что время тянется бесконечно долго, час за часом, бесполезно, а я все сижу в душной гостиной, через северные окна которой виднеется ненастоящее озеро и фальшивые фьорды; и меня притягивает и влечет к себе только прекрасная и странная незнакомка, которую я считаю грешницей. Мне обязательно нужно разглядеть ее лицо, но ничего не получается. Лицо ее смутно светится в обрамлении темных распущенных волос, все оно - заманчивая бледность, ничего больше. Глаза у нее, скорее всего, темно-карие, я уверен - они именно карие, но, кажется, тогда они не подходят к этому лицу, которое взгляд мой силится различить в этой расплывчатой бледности, но я точно знаю, что черты его хранятся в дальних, недоступных глубинах моих воспоминаний.
Наконец что-то переменилось. Вошли те двое. Они поздоровались с красивой дамой и были представлены мне. "Обезьяны", - подумал я и тут же рассердился сам на себя, ведь я просто завидовал вон тому, в изящном модном костюме кирпичного цвета, это была зависть и чувство стыда за себя. Отвратительное чувство зависти к безупречным, бесстыдным, ухмыляющимся! "Возьми себя в руки!" - приказал я самому себе. Оба человека равнодушно пожали мою протянутую руку - почему я им подал ее? - и состроили насмешливые мины.
Тут я почувствовал, что со мной что-то не так. Я ощутил неприятный холод, который шел по телу откуда-то снизу. Я опустил глаза и увидел, бледнея, что стою в одних носках2. Опять эти дикие, нелепые, глупые препятствия и трудности! Другим никогда не случается стоять раздетым или полураздетым в гостиной перед сворой безупречных и беспощадных! Я безнадежно пытался хотя бы прикрыть одной ногой другую и тут взглянул ненароком в окно и увидел, что скалистые берега озера угрожающе и дико синеют фальшивыми и мрачными красками, притворяясь демоническими. Удрученно и беспомощно посмотрел я на незнакомцев, полный ненависти к этим людям и еще большей ненависти к самому себе, - ничего у меня не получалось, никогда-то мне не везло. И почему, собственно, я чувствовал себя в ответе за это глупое озеро? Ну, раз чувствовал, значит, неспроста. С мольбой заглянул я в лицо кирпично-рыжему, щеки его сияли ухоженной свежестью и здоровьем, хотя я хорошо знал, что понапрасну унижаюсь, - он не пожалеет меня.
Теперь он как раз обратил внимание на мои ноги в темных грубых носках слава Богу еще, что они не дырявые, - и отвратительно ухмыльнулся. Он подтолкнул своего приятеля и показал на мои ноги. Тот тоже издевательски заулыбался.
- Вы на озеро посмотрите! - воскликнул я, показывая рукой в окно.
Рыжий пожал плечами - ему и в голову не пришло повернуться к окну - и что-то сказал своему приятелю; я половину не расслышал, но речь шла обо мне и таких вот простофилях без ботинок, которым не место в такой гостиной. При этом в слове "гостиная" для меня, как в детстве, звучал какой-то оттенок благородства и светскости, прекрасный и фальшивый одновременно.
Чуть не плача, я наклонился и посмотрел на свои ноги, как будто надеялся еще что-то поправить, и теперь оказалось, что я сбросил с ног стоптанные домашние туфли, - как бы то ни было, одна туфля, большая, мягкая, темно-красная, валялась на полу. Я нерешительно поднял ее, ухватившись за задник, по-прежнему в том же слезливом настроении. Туфля выскользнула, но я успел поймать ее на лету - а она тем временем выросла еще больше - и держал теперь ее за носок.
И тут я внезапно с каким-то внутренним облегчением ощутил глубокую значимость этой туфли, которая чуть покачивалась у меня в руках под тяжестью массивного задника. Ах, какое великолепие - такая вот дряблая туфля, до чего она мягкая и тяжелая! Я попробовал взмахнуть ею - это было нестерпимое ощущение, и оно пронзило меня блаженством насквозь. Никакая дубинка, никакой резиновый шланг не шел ни в какое сравнение с моей большой туфлей. Я дал ей итальянское имя Канцильоне*.
Едва я играючи обрушил первый удар своей Канцильоне на голову рыжего, как этот молодой и безупречный модник, качнувшись, повалился на диван, а все остальные, и та комната, и страшное озеро - утратили надо мной всякую власть. Я был большой и сильный, я был свободен, и во втором ударе, который пришелся рыжему по голове, уже не было ничего от борьбы, от суетливой обороны, а лишь ликование и освобожденная радость победителя. Да и к поверженному врагу у меня не было ненависти, он был мне интересен, дорог и мил, ведь я был его господином и его творцом. Ибо каждый хороший удар, который я наносил своей романской дубинкой-туфлей, все больше придавал форму этой незрелой обезьяньей голове, выстраивал, лепил, и с каждым ударом она становилась все более привлекательной, красивой, благородной, становилась моим творением, моим произведением, которым я был доволен и которое я любил. Последним ласковым ударом, ударом кузнеца, я вправил ему, в точности так, как надо, выпирающую часть затылка. Он был завершен. Он поблагодарил меня и погладил мне руку. "Ну-ну, полно тебе", - кивнул я. Он скрестил руки на груди и робко сказал: "Меня зовут Пауль".
Удивительное, радостное чувство всесилия росло в моей груди и расширяло пространство вокруг меня; комната - ничем уже не походившая на "гостиную"! - стыдливо ускользала и наконец боязливо исчезла куда-то в раболепном ничтожестве. Я стоял на берегу озера. Озеро было иссиня-черное, свинцовые тучи давили на мрачные горы, во фьордах, пенясь, вскипала темная вода, над нею натужно и тревожно кружили теплые вихри. Я посмотрел вверх и поднял руку, давая знак начинать бурю. Молния сорвалась с небес, холодным белым светом озарив тяжелую синеву, сверху обрушился теплый ураган, в небе серый хаос форм стремительно растекался, вспухая мраморными жилами. Большие округлые волны боязливо катились по исхлестанной ветром поверхности моря, буря срывала с их спин хлопья пены и острые водяные брызги и швыряла их мне в лицо. Замершие в темноте скалы в ужасе таращили глаза. В их молчании, в их стремлении прижаться друг к другу была мольба.
Среди оглушительной бури, лихо мчащейся на гигантских конях-призраках, послышался рядом со мной робкий голос. Значит, я не забыл тебя, бледная женщина, окутанная длинно-черными волосами. Я склонился к ней - она лепетала, как дитя: "Вода поднимается, нельзя, нельзя, надо уходить". Я еще смотрел с нежностью на милую грешницу, и все лицо ее было - тихая бледность в сумерках волос, ничего больше; и тут высокая волна захлестнула с плеском мои колени и сразу дошла до груди, и грешница кротко и бессильно закачалась на волнах, а вода поднималась все выше. Я невольно засмеялся, обхватил ее колени и взял ее на руки. И это тоже было прекрасно и давало чувство свободы, женщина была поразительно легкая и маленькая, наполненная свежим теплом, и глаза у нее были добрые, доверчивые и испуганные, и я видел теперь, что это вовсе не грешница и не далекая туманная дама. Не было греха, не было тайны; это был просто ребенок.
Выбравшись из волн, я понес ее, минуя скалы, через дождливо-мрачный, траурный, царственно-сумрачный парк, куда не долетала буря, и где склоненные ветви старых деревьев дышали нежной человечной красотой, и откуда сплошным потоком лились поэмы и симфонии; то был мир сладостных предчувствий и пленительных, возвышенно строгих наслаждений; то были милые деревья Коро, писанные маслом, и полная сельского очарования рожковая музыка Шуберта, которая мимолетным биением внезапной ностальгии тихо поманила к добрым пенатам. Только напрасна, ибо многоголос миф и для всего есть у души свое время и свой час.
Бог его знает, как эта грешница, туманная женщина, дитя, простилась и ускользнула от меня. Были каменные ступени, пожалуй, это было парадное крыльцо, слуги стояли у входа, и все - расплывчатое, туманное, как за матовым стеклом, и там еще что-то неясное, еще более бесплотное, еще более сумеречное, какие-то колеблемые ветром призраки, но оттенок упрека и укора отогнал прочь весь этот вихрь теней. Ничего от него не осталось, кроме фигуры Пауля, моего друга и сына Пауля, и в его чертах то открывалось, то скрывалось одно лицо, которое невозможно было назвать по имени, но бесконечно знакомое, лицо школьного товарища, древнее и вечное лицо няни, вскормленное добрыми, живительными, сказочными полувоспоминаниями первых лет жизни.
Добрый, задушевный сумрак, теплая колыбель души и утраченная родина раскрываются тебе. Время невоплощенного бытия, нерешительное первое биение на дне чистого источника, под которым дремлют древние времена предков, наполненные снами первобытных лесов. Ищи же, душа, блуждай, бреди на ощупь в благодатном источнике невинных, невнятных порывов! Я знаю тебя, робкая душа, нет для тебя ничего важнее, нежели возвращение к истокам, - это твой хлеб, твое питье, твой сон. Там шумит вокруг тебя морская волна, и ты сама - волна, и шумит лес, и ты сама - лес, и нет больше разницы между тем, что внутри, и тем, что снаружи, ты паришь в воздухе, и ты - птица, ты ныряешь в воду, и ты - рыба, ты впитываешь свет, и ты сама - свет, ты погружаешься во тьму, и ты - тьма. Мы странствуем, душа, мы плывем и летим и, улыбаясь, связываем бесплотными пальцами порванные нити - так поют, блаженно затихая, успокоившиеся волны. Мы больше не ищем Бога. Мы сами - Бог. Мы сами - мир. Мы убиваем и умираем вместе с убитыми, мы творим и воскресаем вместе с нашими снами. Наш самый лучший сон, он - синее небо, наш лучший сон, он море, наш лучший сон - искрящаяся звездами ночь, и рыба в воде, и яркий радостный звук, и яркий радостный свет - все это наш сон, все в мире - наш лучший сон. Мы только что умерли и стали землей. Мы только что придумали смех. Мы только сейчас разметили на небе первые созвездия.