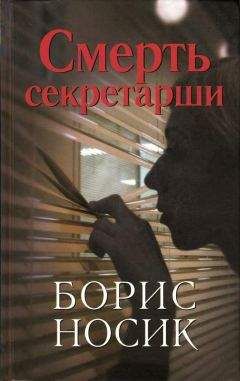Борис Носик - Пионерская Лолита (повести и рассказы)
Конечно, все мало-помалу утряслось, и дети устроились на работу, а те, кто не устроились, стали выпускать русские газеты и приложения к ним, вдобавок для стариков открыли какие-то клубы, где можно собраться и спеть что-нибудь свое, нормальное, скажем «Полюшко-поле», «Броня крепка, и танки наши быстры» или «Хороши весной в саду цветочки»…
Обо всем этом я думал, оглядывая неулыбчатых стариков на протяжении всего своего рассказа. У меня было тяжкое ощущение, что они меня не слышат, но потом я понял, что они просто не слушают. Что они просто ждут, когда я кончу про какой-то неведомый Таджикистан, в котором вдобавок жили мусульмане, да еще где-то в Совдепии. А чего они ждали, я тоже понять не мог, — может, в заключение беседы их чем-нибудь тут, как правило, угощают…
Одно я понял по истечении получаса — что хорошо бы элегантно так закруглиться, но потом решил, что, если даже я закруглюсь безо всякой элегантности, никто этого не заметит.
— Вот так они и жили… — сказал я. — А теперь вы можете задавать вопросы.
Они зашевелились, стали вытаскивать из карманов какие-то бумажки, заметки, расправлять их, откашливаться, а я с облегчением опустился на стул, улыбаясь идиотской и, как мне казалось, вполне приветливой улыбкой усталого гения. Они, видимо, и впрямь хотели меня о чем-то спросить, эти старики, и уже приготовились начать, как вдруг вскочил какой-то на дальнем конце стола, неистовый и краснолицый, и закричал, что он тоже из Москвы и что мы учились с ним в одной школе. Это была замечательная школа, может, лучшая в Москве, и из нее вышло много гениев, он не помнит всех по фамилиям, но помнит зато, как звали директрису. Он хотел еще о чем-то сказать, но помялся и не мог вспомнить о чем, и видно было, что это вообще экспромт. Зато уж остальные выступления (а их было много) были тщательно подготовлены и написаны на бумажке, но оттого ли, что ораторы говорили очень невнятно, или оттого, что им давно уже (или вообще никогда) не приходилось писать по-русски, понять, что они там понаписали и зачитывают, оказалось очень трудным делом. Фразы начинались и никак не могли закончиться, и я долго и тщетно пытался понять, о чем идет речь. Окопы, да-да, война, да, амбразура дзота… Один раз мелькнула моя фамилия, и я подумал, что это естественно, и даже предположил, что и в остальных выступлениях речь идет обо мне. Прислушиваясь к интонациям горячечной их сбивчивой речи, я вдруг мало-помалу стал приходить к мысли, что, может, они вовсе не благодарят меня за предоставленную возможность повидать при жизни (при их и при моей жизни) вполне еще живого писателя, а что они, напротив, недовольны чем-то или кем-то, скажем «корзиной абсорбции» или «министром абсорбции», который, как у них водится, был одновременно и раввин, и жулик. Но тогда при чем тут я?..
Через четверть часа особо внимательного перехвата я различил в этом потоке почти русской речи еще одно знакомое имя — «Эренбург». А может быть, «Оренбург». При чем тут Оренбург (хотя, может, их интересовал Свердлов или судьба убиенной царской семьи)? И при чем Эренбург… И тут мне вдруг пришло в голову, что, может, очень даже при чем… Среди полсотни баек, которыми я пытался через газету потешить русскоязычное население Страны обетованной, а заодно и скромно увеличить свой нищенский доход, была одна, действительно имевшая отношение к Эренбургу. К знаменитому советскому писателю Илье Григорьевичу Эренбургу, который знаменит был как еврей, как военный публицист, как знаток Франции и крупный интеллектуал, имевший в запасе много заграничных слов и фамилий, как борец за мир во всем мире.
Что же я там, дай Бог памяти, рассказывал в этой своей статейке для низкооплачиваемой газеты, которая была приложением к чему-то еще более низкооплачиваемому? Ну да, про последнюю любовь Эренбурга… Про другие его любови я ничего не знал, но эта, последняя, показалась мне очень трогательной и вполне забавной. В 1948-м, а может, чуток раньше, когда земля горела под ногами российских евреев и те из них, что маячили на поверхности, стали один за другим исчезать в подвалах Лубянки, И. Г. Эренбург сумел выжить снова и даже стал главным мировым деятелем борьбы за мир. Конечно, это была международная гэбэшная операция по мобилизации левой западной интеллигенции против гнусного западного истеблишмента и созданию дымовой завесы над очередной попыткой Сталина добить уцелевший в той войне и еще не ставший коммунистическим Запад, так что, вероятно, планировали и осуществляли эту операцию большие умы и стратеги Лубянки, но и Илье Григорьевичу выпала в осуществлении этой операции совершенно особая роль, и, может, именно поэтому он не помчался в тюремном вагоне по маршруту известного фильма («Поезд идет на восток»), а, напротив, зачастил на Запад, где и соблазнял разговором, подарками, золотыми медалями героев и перспективой побед всех более или менее близких к компартии, к Коминформу и бывшему Коминтерну интелло Запада. И вот тут, в этом круженье во имя мира и лучшего друга мира, великого миролюбца Сталина, Эренбург и повстречал в Стокгольме молодую (лет на тридцать его помоложе) Лизелотту Майер. Для нее имя его было овеяно славой и любимо ею с детства. Это он писал в те годы, когда она бежала с коммунистами-родителями от фашизма в Россию, свое ежедневное, гневное: «Убей немца!»… Потом война кончилась, и молодая, энергичная женщина стала мэром Стокгольма, куда вдруг и приехал легендарный победитель немцев, а стало быть, и защитник евреев, сторонник мира И. Г. Эренбург. Она, конечно, была тоже не против мира: мир Сталину, война дворцам. Но дело было даже не в мире: просто это была любовь с первого взгляда. Любовь всегда прекрасна, особенно когда любят нас, стариков, но эта любовь была еще и опасна. Она называлась в ту пору «связью с иностранкой». За такой роман великий миролюбец мог отрезать голову без колебаний. Так что требовались конспирация и хитрость. Влюбленные встречались, вероятно, в мэрии, под охраной местной полиции. Они там разрабатывали Стокгольмское воззвание, которое требовало совместных усилий. К тому же Стокгольм — не Париж, там у ГПУ еще не было, как выражались позже, «все схвачено». Такой вот был романтический стокгольмский роман. Из зова любви родилось Стокгольмское воззвание… Мне эта история показалась трогательной. Для меня это была самая человечная история в жизни во все времена уцелевшего хитреца и предателя… Кажется, так я это там и сформулировал, в своей статейке. И здешние старики ее (о ужас!) прочли. Я оплевал в ней все, что у них было самого дорогого. Их Эренбурга, который был еврей и победил Гитлера, которому доверял сам Сталин. Который бросался грудью на амбразуру дзота. Который говорил на всех языках мира, не считая еврейского. Который стоял за мир и отстаивал дело мира. Мы все за мир, клятву дают народы… Это, кажется, его стихи. А может быть, Евтушенко. На музыку Хренникова и Лядовой. Композитор Кобзон, который тоже за мир. Или еще за что-то… Я оплевал все чистое. Кто я такой, чтоб плевать? Вот и доказывай теперь, что ты не плевал. Что ты не верблюд…