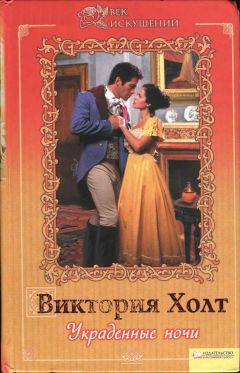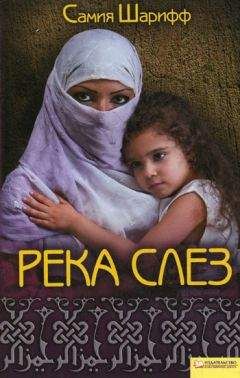Елена Катишонок - Свет в окне
Внутри горел свет: мать приехала раньше. От напряжения и недосыпа последних месяцев она похудела, черты лица стали резкими, под глазами лежали тени. Плита горела, но мать зябко куталась в бабкин шерстяной платок.
Здесь ничего не изменилось: стоял привычный запах кофе, на столе лежали бабкины очки со сложенными, точно руки у задумавшегося человека, дужками; на спинке стула висел дедов пиджак. Карла вдруг пронзила мысль, что дед умер, так и не вернувшись домой, словно он снял пиджак – и отправился в больницу умирать.
Абсурд, абсурд.
Мать потянулась за очками. Встретив недоуменный взгляд Карла, пояснила: «Это мои, сынок». На секунду представилось, что матери больше нет, и он тем же движением протягивает руку к очкам – к его собственным очкам, в которых он пока не нуждался, однако чувство смещения времени было таким острым, что он помотал головой.
Они мало говорили в тот день. За окном стемнело. Впереди был выходной плюс три дня за свой счет, чтобы прийти в себя и навести порядок в доме.
Начали с дома – это было проще. Вопреки опасениям Карла, мать держалась спокойно, пока не дошла очередь до большого шкафа в спальне. Шкаф оказался плотно набит вещами, они были почти спрессованы внутри. Лариса вынимала кипы постельного белья, трикотажа и передавала сыну; он все складывал на кровать. Изумление нарастало.
– Откуда… столько?
Мать пожала плечами.
Было чему изумляться: вещи были новые, с этикетками. Из сложенного купального полотенца выпал чек трехлетней давности. Наволочки, тисненые шелковые шторы, пододеяльники, отрезы тканей, какие-то узорчатые покрывала… Сколько лет все это приобреталось, где, для чего?.. Все, что он видел на хуторе, состояло из самых необходимых вещей; одни и те же полотенца бабка стирала, сушила и снова вешала на кухонные крючки.
Апофеозом явились шубы: каракулевая, норковая и неизвестного обоим дымчатого меха, очень легкая и мягкая.
– Это все ее… бабушкины были? – спросил Карл.
Лариса тяжело опустилась на кровать.
– Ни разу не видела ни одной, – ответила устало. – Меня другое удивляет… – Замолчала, глядя не на шубы, а в пол; потом продолжала: – После Сибири мы ведь нищие вернулись. По тарелке, по чашке, по полотенцу, – она кивнула на высившиеся кипы новых полотенец, – по одному полотенцу в зарплату покупали. А тут…
Карлушка помнил.
– Я знаю, деньги у них были; наверняка лежат на книжке. Может, найдется тут где-нибудь – там указано, кому вклад в случае… – мать запнулась, – и завещание должно где-то быть, дед мне говорил. Очень боялся, что, когда они умрут, дом заберут. Тут неподалеку мыза «Подсолнухи» была, помнишь? Хозяева были бездетные старики; как только они ушли, там клуб открыли.
О Насте мать не спрашивала. Сам он несколько раз возвращался мыслями к ее неожиданному отъезду, но как-то рассеянно – все время что-то отвлекало. Например, в кухонном буфете вечером нашлось завещание. Дом и все, что к нему относилось, по смерти деда переходили к бабке, а «в случае смерти оной», предусмотрительно оговоренной витиеватым юридическим языком, становился собственностью Карла.
Имя матери не упоминалось.
Лариса кивнула:
– Разумно. Пойми, Карлушка, для них дом значил очень много. Не всегда ведь они грызли друг друга. Мечтали, что у тебя семья появится, дети… – осеклась и начала убирать со стола. – Нет, разумно они рассудили, – и стала убирать со стола.
В том же буфетном ящике лежала пачка квитанций об уплате налогов и какие-то магазинные чеки. Мать рассказала, как родители заставили ее взять деньги – «на обзаведение молодым»:
– Помнишь, мы тебе костюм поехали покупать?..
Он курил, сидя на кухне, отдыхая от всего сразу: от мыслей о ГДР, от непонятных шуб, от залежей промтоваров на втором этаже, где впору было повесить табличку «Инвентаризация».
Мать улыбнулась.
– Да нечего там инвентаризировать. Главное, они вдвоем меня убеждали перед вашей свадьбой, что у них денег куры не клюют. Сами, мол, ни на что не тратят, а вам нужнее. Наверное, все деньги тогда и отдали.
Было поздно, но Карлу не спалось. Он слышал, что мать тоже не спала. Накинул пиджак и спустился в надежде найти что-нибудь почитать.
Мать покачала головой.
– Книги? Если есть, то где-нибудь на чердаке.
С ключами в руке было легче представить себя владельцем хутора. И трех шуб, съехидничал мысленно; не отнести ли их на чердак?
Он никогда здесь не был. Похоже, сюда вообще редко заходили: пол был усеян какой-то трухой, по углам лежал мусор, похожий на сметенные кое-как осенние листья. От сквозняка то тут, то там слышался легкий шорох. На полу лежали доски, накрытые мешковиной: должно быть, дед собирался что-то ремонтировать. Тут же – мятое ведро с засохшим цементным раствором. У стены стоял старинный изящный буфет из какого-то благородного, даже при этой тусклой лампочке видно, дерева. Одна дверца была сломана, другая, перекошенная, беспомощно висела на одной петле. Доски и окаменевший цемент в тусклом ведре странно диссонировали с буфетом. Внутри на полке оказались потемневший латунный подсвечник и несколько щербатых тарелок. Карл огляделся. В деревянном ящике, стоявшем торцом, лежала стопка пыльных журналов. В углу он приметил еще один ящик – вдруг книги? – и шагнул вперед, но в этот момент что-то тихо зашелестело прямо над его головой. Подняв глаза, увидел какую-то плотно набитую кошелку – она висела на крюке, вбитом в балку. Поколебавшись, снял кошелку с крюка и заглянул внутрь.
Бумажная труха, пестрая и грязноватая; больше ничего.
Сунул руку вглубь – и выдернул: по рукаву, цепляя лапками за ткань, побежала мышка, очумевшая от собственной смелости, устремилась к плечу и, мгновенно скатившись вниз, скрылась из виду. Он стряхнул с рукава невесомые сухие хлопья и смотрел, как они падали – серые, зеленоватые, розовые.
Старики говорили правду: денег у них куры не клевали – их погрызли мыши. В труху.
В дальнем углу нашлась еще одна сумка – вместилище денег и облигаций; на облигации мыши не польстились.
В квартире было тихо. Он не заметил, как погасли окна дома напротив – только одно все еще горело. Знал по опыту, что не уснет – какой же смысл ложиться?
– Из-за этих денег они друг друга поедом ели.
И горько закончила:
– И съели.
Они с матерью тогда так и не уснули, как он сейчас.
Мать рассказала немного, говорила скупо, надолго замолкала: слишком свежа была боль потери.
Дед всю жизнь осторожничал. Соседям неизменно жаловался на убытки; дома озабоченно качал головой и поговаривал о продаже хутора. Время от времени уезжал – якобы по хозяйственным делам; позднее выяснилось: на ипподром. Ставки делал небольшие, но ему постоянно везло; для азарта был неуязвим. Отец с матерью часто говорили о деньгах с непременным сетованием на их нехватку. Несколько раз выигрыш оказывался крупным. Только ли ипподром помог или что-то еще было, но вскоре отец купил в городе небольшой дом; спустя несколько лет – второй. Прибавилось жалоб, теперь уже на жильцов и городские налоги.