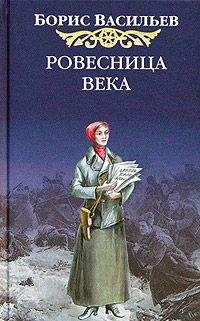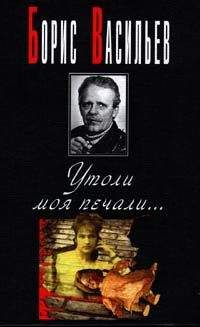Борис Васильев - Картежник и бретер, игрок и дуэлянт. Утоли моя печали
Вошел адъютант:
– Дежурный офицер по вашему повелению.
Посторонился, и в комнату шагнул дежурный офицер:
– Дежурный офицер капитан Олексин, Ваше высочество! – звякнув шпорами, доложил он.
– Соберите три роты солдат в распоряжение обер-полицмейстера. Брать только из нестроевых частей, капитан. Только из нестроевых, а парадных расчетов не трогать ни под каким видом. Командовать ими будете лично по указаниям обер-полицмейстера.
– Слушаюсь, Ваше высочество.
– Ступайте, капитан. – Сергей Александрович дождался, когда выйдет Николай Олексин, сурово глянул на Власовского: – Не болтать. Вы поняли меня? Не болтать! Действуйте.
3
В десять утра хлопнула дверь, донесся не то вздох, не то всхлип, и Василий Иванович Немирович-Данченко понял, что кухарка вернулась с Ходынского поля. Закрыв рукопись статьи о торжественном представлении в Большом театре – писать пришлось допоздна, а доделывать уже с рассвета – и сменив халат на домашнюю куртку, он прошел в кухню. Кухарка готовила завтрак на таганке и – странно – не отозвалась на его пожелание доброго утра.
– Ну что же, получила кружку? – спросил Василий Иванович, когда она стала молча накрывать на стол.
– Какая уж там кружка, барин! – судорожно всхлипнула она. – Не до кружки тут. Еле ноги уволокла, спаси Господи!
– Что ж, давка?
– Господи, Боже ты мой! – Кухарка перекрестилась. – Задавили, батюшка-барин, столько… Царствие им небесное!
– Сама видела?
– Да передо мной, как вот у порога, бабу вытащили, как есть, мертвую, всю, как есть, в клочьях…
– Ну уж…
– Тысячи людей подавили, барин! – выкрикнула кухарка и вновь истово перекрестилась. – Такая свалка, что только и думала я, как бы живой оттудова выбраться…
Она бормотала что-то еще, но Василий Иванович уже не слушал ее, без вкуса прихлебывая кофе. Беспокойное, муторное чувство уже закралось в душу, и он уговаривал себя, что погибшие, по всей вероятности, есть, но есть и обычное преувеличение трагедии, столь свойственное простому народу.
С этим чувством он и вышел из дома. Во двор только что въехал водовоз с большой водовозной бочкой.
– Ты что, не ходил на гулянье?
– Ходил.
– Что ж так быстро вернулся? Или неинтересно тебе?
– Я давно вернулся. А в себя так час назад только пришел.
Водовоз говорил неохотно, каждое слово приходилось тащить из него клещами.
– А что так?
– Так в толпу попал, барин, – вздохнул водовоз. – Понял, что ждать придется долго, решил выбраться, а она вдруг двинулась. Толпа-то. Я назад, я вправо, я влево, ан нет мне места нигде. Да Бог, видно, спас. Уперся я против движения-то и стою. Уж и били меня, и давили, и ругмя ругали, а я все одно – как столб. Вытерпел, а поредело малость, так и в Москву поплелся.
– Задавленных видел?
– Троих самолично. Одному на спину наступил, прости ты меня, Господи…
– Когда толпа, говоришь, двинулась?
– Кто его знает. Солнце еще низкое было. Может, часов в пять или в шесть.
– Так ведь раздача угощения была на десять назначена!
– Не знаю, барин. – Водовоз глубоко, медленно вздохнул. – Я и сейчас ничего не знаю. В голове у меня мутит…
И снова принялся наполнять ведра, думая о чем-то другом и видя перед собой что-то совершенно иное.
Василию Ивановичу нужно было заехать в корреспондентский пункт и на телеграф, чтобы отправить две статьи в Петербург. В этих официальных местах о трагедии на Ходынке ничего толком не знали, но слухи докатились и сюда:
– Слышали?
– Тысячи, говорят…
– Да бросьте вы!
У телеграфа подметал тротуар дворник без шапки, хотя не принято то было, непозволительно даже. Но он, как показалось Немировичу-Данченко, даже не понимал, что на нем нет шапки. Он плакал.
– Что с тобой?
– Да бабы моей все нету и нету. – Дворник ладонью вытер залитое слезами лицо. – Все, кто с нею ходил, вернулись, а ее – нету. Потерялась, говорят. Ах, Господи, да как же человек потеряться-то может? Ведь не пятак же…
Василий Иванович постарался побыстрее переделать все свои неотложные дела, потому что беспокойство в душе росло. Источник этого беспокойства был сейчас далеко от него, увидеть что-либо собственными глазами не представлялось пока возможным, а к слухам он, опытный корреспондент, давно уже относился с большим недоверием.
Это профессиональное недоверие смущало, многое ставило под сомнение, мешало непосредственным ощущениям. Он обратил внимание на большое движение в городе, странное для праздничного дня, когда не работали даже мелкие лавки. Навстречу все время шли люди, навстречу, с Ходынки, а не к ней. Шли молча, со строгими безулыбчивыми лицами, не глядя по сторонам, а чаще уставясь в землю. Ситцевые узелочки с подарками он заметил у двух-трех, не более, может быть, потому, что в глаза бросалась какая-то измятость, что ли. Измятость одежд, фигур, лиц, походок, наконец. «Пьяные, что ли?.. – размышлял Василий Иванович, еще не решаясь представить себе возможные размеры трагедии. – Да нет, не похоже. Может, праздник отменили?.. Конечно, давка там вполне возможна, и большая давка, но…» Но следовало увидеть все собственными глазами, побеседовать с непосредственными участниками возможной трагедии, а времени не было. По корреспондентским своим обязанностям он должен был лично присутствовать при всех выходах государя в народ, а именно таковое предусматривал сегодняшний распорядок. Вот почему он избегал теперь расспросов, а то, что видел с пролетки, немедленно подвергал всесторонней критике не потому, что этого как бы «не могло быть», а потому, что не хотел создавать некий образ события до того, как мог детально с ним ознакомиться. Мысленно он все время твердил себе, что все слухи – невольное, вполне естественное, но в то же время и бессовестное преувеличение реального несчастья, столь свойственное русскому человеку, особенно в торжественные дни: он называл это «компенсацией за личное неучастие». Так, встреченные им на Тверской пожарные дроги и бочки, а также несколько закрытых брезентом обозных военных фур с нестроевыми солдатами на козлах он тут же объяснил самому себе, как спешную вывозку не убранного вовремя строительного мусора с государевых глаз, упорно твердя себе: «Все пока объяснимо логически, все объяснимо».
Где-то около часу дня Василию Ивановичу удалось пробиться к Царскому павильону, расположенному напротив Петровского дворца, да и то только с помощью демонстрации корреспондентского значка. Подъехать к трибуне, где были определены места для корреспондентов, не удалось, пролетку остановили, и Немирович-Данченко встал в ней, чтобы сойти.
И… задержался, увидев вдалеке Ходынское поле.
Оно было закрыто сплошной стеной народа. Народ стоял и на обочинах Петербургского шоссе, куда только хватал глаз: и в сторону Москвы, и дальше, к селу Всехсвятскому, подковой охватывая Ходынское поле. И душа его словно вдруг съежилась в предчувствии неминуемого страшного удара.
С этим ощущением нарастающей тревоги он и прошел на свою трибуну. Ранее прибывшие коллеги тут же окружили его.
– Знаете, что там, на Ходынке?
– Нет. А что?
– Несколько тысяч раздавлено.
– Ах, господа, господа, – вздохнул Василий Иванович. – Нам по долгу своей профессии по пальцам считать надобно, прежде чем такое говорить.
– Ну, хорошо, но всмотритесь в лица простонародья. На лица внимания не обращали, Василий Иванович? – наседал бородатый экспансивный корреспондент «Московского листка». – Они же все измученные, угнетенные какие-то. Ни одного веселого не встретил! И это – в праздничный день!
– Можно подумать, коллеги, что вы вчера прибыли из Парижа. – Немирович-Данченко опять вздохнул: не дышалось ему что-то, не дышалось. – Я веселых лиц тоже не видел, но измученных, угнетенных… Помилуйте, коллеги, русский человек гораздо глубже такого европейского определения. Он настолько вынослив, настолько терпелив и способен долго и упорно сдерживать все свои чувства, что даже в трагические минуты выглядит равнодушным. А что в этот момент в душе его творится, одному Богу ведомо. Ему куда более свойственна азиатская невозмутимость нежели галльская темпераментная непосредственность, которой грешат многие из нас.
Трибуны были уже почти заполнены публикой. Пестрели нежными пастельными тонами дамских нарядов, ярко выделявшихся на фоне темных фраков, сюртуков и парадных мундиров. Легкий говор колыхался над ними, как ветерок, перед трибунами стояла молчаливая толпа, а позади ее – три оркестра и тысячеголосый хор. На вышку перед павильоном уже поднялся дирижер – директор Московской консерватории Сафонов, – отдававший в рупор последние распоряжения. А еще дальше – опять народ, но уже стоящий спинами к трибунам и павильону. И над ним – густое облако пыли, сквозь которое смутно проглядывали очертания балаганов и эстрад.