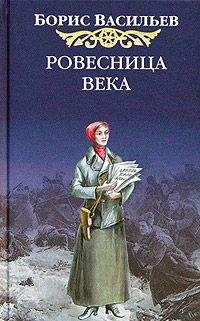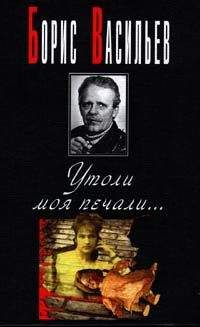Борис Васильев - Картежник и бретер, игрок и дуэлянт. Утоли моя печали
Овраг был заполнен трупами. Может быть, до него еще не добрались похоронные команды, потому что он был не виден с Царского павильона и трибун для публики, может быть, в него даже сбрасывали покойников, торопливо очищая площадь для гулянья, а только было там, как на поле только что отгремевшего сражения. И живые, как похоронная команда, бродили среди мертвых, с ужасом заглядывая в лица, робко надеясь, что их близких здесь нет.
Он не смог спуститься в овраг. Не смог, и заставлять себя не стал. У него уже сложилась общая картина, да и деталей к ней было вполне достаточно. Он думал, что достаточно, а потому и решил вернуться на площадь, к балаганам, где играла музыка и неутомимо выступали артисты. Нашел свободный проход между буфетами, шагнул в него и… и остановился вдруг, точно наткнувшись на стену.
Под его ногами, в пыли лежала толстая пшеничная коса. Василий Иванович с трудом присел в тесном проходе, поднял ее… и вместе с нею из притоптанной пыли появился кусок кожи с головы, уже высохшей на жаре.
Это был скальп. Скальп, сорванный с живого человека. Скальп, который он узнал, вспомнив, как совсем недавно взвешивал косу на ладони. «Ты одна тут, Феничка? – Кажется, он произнес эти слова вслух. – А барышня твоя где? С тобой была барышня?..»
Никто ему не ответил. Он выпрямился с косой в руке, но пошел не вперед, а попятился назад, к оврагу, точно тело Фенички все еще лежало перед ним в узком промежутке между буфетами. А выбравшись, бережно завернул косу в газету и спрятал во внутреннем кармане широкого американского пиджака.
И вовремя, потому что сзади раздался глухой стон. Василий Иванович оглянулся и увидел мужчину лет сорока, по всей видимости, артельщика, в фуражке. Он только что вытащил из соседнего межбуфетного проема тело молодого парня, перевернул его…
– Нет, не он, не он. – Артельщик глянул на Василия Ивановича, жалко, потерянно улыбнулся. – Сына ищу. Николку… – Он вгляделся. – Барин, никак, это вы? Николка мой вашей барышне каблук чинил, помните? Дюжину пива вы…
Корреспондент шагнул к нему:
– Ты?..
Крепко обнял, прижал к груди:
– Ищи, отец, ищи. Не может так быть, не может. Хватит с нас, хватит…
– Значит, тоже ищешь? – шепотом спросил артельщик. – Дай тебе Бог. Дай тебе Бог…
И пошел. А Василий Иванович вдруг ощутил ослепительный взрыв в душе. От этого безмолвного взрыва хотелось орать, что только было сил, ломать все вокруг, выпустить в небо все пять патронов из бульдога, который он всегда носил с собой, учитывая особенности профессии. И еще – боль. Сначала острую, будто пронзившую насквозь, а потом тупую, ноющую. Он пошарил в карманах, но папирос не было: он вообще курил редко. Увидел впереди мужиков, подошел:
– Нет ли закурить, братцы?
– Так махорки разве?
– Спасибо. Только сверни сам, руки у меня дрожат что-то.
– С нашим удовольствием, барин.
Свернули и прикурили даже. И отдали горящую, стреляющую во все стороны… Василий Иванович несколько раз глубоко затянулся, и боль отпустила. И направился к балаганам.
5
Здесь выступали жонглеры, акробаты, гимнасты, силовики жонглировали двухпудовыми гирями. Время от времени появлялся клоун Дуров смешить публику, уходил передохнуть и вновь возвращался. А публика все не смеялась. Сидела большей частью на земле, тихая, оборванная, помятая, а Дурову так хотелось, чтобы хоть кто-то отвлекся от виденного и слышанного, чтобы хоть кто-то улыбнулся.
Василий Иванович знал клоуна Анатолия Леонидовича. Хотел перемолвиться с ним, расспросить, что он застал, когда пришел сюда, что видел, что слышал. Еще на подходе он понял, что Дуров работает из последних сил, почему часто и уходит в балаган перевести дух. И остановился чуть в стороне, чтобы не мешать артисту, а пройти за ним, когда он закончит очередное выступление.
И Дуров его приметил, но вида не подал: номер следовало закончить чисто, профессионально. Но работая, постепенно сдвигался к нему, а потом уронил надутый, ярко раскрашенный бычий пузырь, стал смешно ловить его, кувыркаясь и падая, и подобрался к Василию Ивановичу. Промахнулся с пузырем в очередной раз, схватил вместо него Василия Ивановича за ногу, стиснул.
– Здравствуй, Анатолий Леонидович, – шепнул Немирович-Данченко, наклонившись к нему.
– Под балаганом – женское тело… – задыхаясь, тихо сказал клоун. – В неглиже. Белье кружевное, Василий Иванович. Сейчас не глядите, я публику в другой конец отвлеку…
И дурашливо заверещал, гоня размалеванный пузырь в противоположную сторону.
Василий Иванович, сделав вид, что поправляет смятые клоуном брюки, нагнулся, заглянул под нижний венец балагана и сразу же увидел маленькое, жалкое тело в кружевных панталончиках. Что-то вновь ударило его в сердце – может, Феничкина коса. Он задохнулся, выпрямился, оглянулся кругом и увидел двух солдат поодаль: что-то они сгребали с земли на носилки.
– Офицера ко мне! – крикнул он. – Живо!..
Один из солдат послушно побежал за офицером, а оставшегося Немирович-Данченко поманил к себе:
– Двуручную пилу, лом, лопаты. Быстро!..
И второй убежал. А к Василию Ивановичу уже спешил молоденький, исполненный чрезвычайной важности подпоручик.
– Женщина под балаганом. Прикажите немедленно достать и пошлите за врачом.
– Тут под каждым балаганом… Да что там, под каждым ларем мертвые попрятаны, господин… Прощения прошу, не знаю, с кем имею честь. Кончится гулянье, всех в морги развезем.
– Я прошу немедленно…
– Не мешайте работать.
– Служить надоело? – У Василия Ивановича вдруг перехватило горло. – Так я помогу вам из армии вылететь. С треском, ко всем чертям!.. Старшего сюда!
– Господин капитан! – закричал подпоручик, вмиг став испуганно-серьезным. – Господин капитан, сюда пожалуйте!..
К ним уже бежал, гремя шанцевым инструментом, солдат. Следом устало поспешал молодой капитан в насквозь пропыленном парадном мундире.
– В чем… Господи, Василий Иванович?
– Здравствуй, Коля. Там… – Василий Иванович ткнул в балаган задрожавшим вдруг пальцем. – Там – женщина. Кажется, это… Она это, Николай. Она, по боли чую.
Капитан странно посмотрел на него, присел, заглянул. Выпрямился, запыленное лицо бледнело на глазах.
– Что же это, Василий Иванович? Да почему же здесь?..
– Вели вытащить. Пошли за врачом и пролеткой. Может, жива еще. Может, жива…
Немирович-Данченко без сил опустился на землю. Он смотрел, как солдаты споро расширяют лаз, как Николай, отодвинув их, протискивается под нижний венец балагана. Смотрел и не видел: плыло все перед глазами. Увидел только тогда, когда из-под балагана показалась женская голова со спутанными, дыбом стоящими, забитыми желтой глинистой пылью когда-то темно-русыми волосами…
К тому времени, как Надю вытащили, подоспевшие солдаты уже стали в заслон перед публикой и прибежал пожилой усатый фельдшер. Рванул на девичьей груди остатки кружевной рубашки, припал мохнатым ухом.
– Что? – задыхаясь, спрашивал Николай. – Жива ли? Чего молчишь?..
– В больницу, – сказал фельдшер, поднимаясь. – Жива покуда, ваше благородие. Сердечко бьется. Еле-еле, но бьется.
Василий Иванович тяжело поднялся, снял пиджак, прикрыл избитое, все в синяках и кровоподтеках, почти обнаженное тело. Николай глянул на него странным отсутствующим взглядом, метнулся к разрушенной карусели, обломки которой были накрыты остатками цветного шатра, в два взмаха вырубил саблей большой лоскут. Воротясь, завернул в лоскут сестру и, подхватив на руки, побежал навстречу пылившей от Петербургского шоссе пролетке.
Глава девятая
1
Поздно ложась спать, Варя поздно и вставала: завтрак ей подавали в постель не раньше двенадцати. И Роман Трифонович позволил себе подняться на час позже: в восемь вместо обычных семи. Попивая крепкий кофе, просматривал бумаги, которые по утрам лично доставлял старший конторщик. Так уж было заведено: Хомяков на работе не щадил ни себя, ни своих служащих. А дворецкий Евстафий Селиверстович Зализо обычно стоял рядом, опытно – не под руку, не в момент чтения – докладывая дела домашние.
– Барышню и ее горничную с вечера не видел, не спускались они, Роман Трифонович.
– Не буди, пусть обе отоспятся, молодые еще. Набегались в коронацию.
Евстафий Селиверстович степенно склонил голову.
– Видать, крепко спят с устатку-то. И грохот не разбудил.
– Ну, я-то как раз от грохота и проснулся.
– В семь часов сорок пять минут все пожарные части подняли по общей тревоге.
– Пожар, что ли?
– Узнавал. Пожаров нет, на Ходынское поле помчались. Говорят…
– Чего замолчал? – усмехнулся Хомяков.
– Слух непроверенный, потому и замолчал. Так что, как изволите.