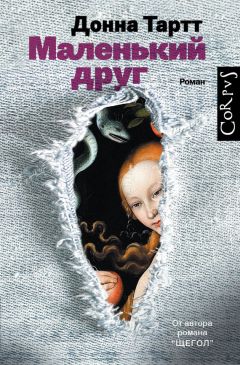Донна Тартт - Щегол
– Это Ксандра тебя на это подсадила?
– Ксандра? Да у половины спортивных букмекеров в Вегасе номер астролога забит в автодозвон. Короче, я что хочу сказать – при всех прочих равных – есть ли разница в том, как планеты сошлись? Да. Определенно говорю тебе – да. Суть в чем – удался день у игрока, не удался, как у него с настроением, да все такое. Честно, иметь это все в загашнике здорово помогает, когда немножко, как бы это сказать – ха-ха! – раскорячишься, хотя… – он продемонстрировал мне толстенную пачку, перехваченную резинкой – по ходу одни сотенные, – у меня год по-настоящему удался. Из тысячи игр за год выигрыш – пятьдесят три процента. Вот она, золотая рыбка!
Воскресенья он звал днями большого куша. Когда я вставал, он уже был внизу – похрустывают разложенные вокруг газеты, а сам он, бодрый и оживленный, носится туда-сюда, как будто на дворе рождественское утро, выдвигает-задвигает ящички, разговаривает со спортивной новостной строкой на своем “блэкберри” и жует кукурузные чипсы прямо из пакета.
Если шла важная игра и я хотя бы на минутку присаживался с ним ее посмотреть, он иногда мог дать мне, как он выражался, “кус” – двадцать баксов, полсотни, – если выигрывал.
– Чтобы тебя втянуть, – пояснял он с дивана, подавшись вперед, взволнованно потирая руки.
– Смотри, нам надо, чтобы “Колтс” уже после первой половины матча слились подчистую. Вообще сгинули. А еще же есть “Ковбои” и “Найнерс”, поэтому надо, чтоб во второй половине игры счет перевалил за тридцать… Да! – завопил он, вскочив, возбужденно потрясая кулаком. – Потеря мяча! Мяч у “Редскинс”! Нам поперло!
Но я только путался, потому что мяч-то потеряли “Ковбои”. А я-то думал, что “Ковбои” должны были хотя бы до пятнадцати продвинуться. Трудно было уследить, когда отец резко посреди игры мог переметнуться из одного лагеря в другой, и я часто попадал впросак, начиная болеть не за ту команду; но все равно – пока мы без разбору переключались от игры к игре, от таблицы к таблице, я наслаждался его угаром и тем, как мы целый день обжирались масляной едой, и хватал двадцатки и полсотенные, которыми он в меня швырялся так, будто они падали с неба. В другой день отцом завладевало смутное беспокойство, оно всплывало вместе с приливом острого энтузиазма и от него же подпитывалось, беспокойство это, как я понимал, не имело никакого отношения к ходу игры, отец вдруг безо всякой видимой причины принимался расхаживать туда-сюда, закинув сцепленные руки за голову, глядя на экран с лицом человека, которого неудачи на работе полностью выбили из колеи: он обращался к тренерам, к игрокам, спрашивал, не охренели ли они и что, блин, вообще происходит.
Иногда он с непривычно заискивающим видом шел за мной на кухню.
– Меня по стенке размазывают, – с усмешкой говорил он, облокотившись на стойку, комично переживая, ссутулившись так, что на ум поневоле приходил банковский грабитель, получивший пулю в живот.
Оси x. Оси у. Сколько ярдов, какая разница в счете. В день игры, часов до пяти вечера, белый свет пустыни отгонял всепроникающую воскресную унылость – осень тонет в зиме, одинокие октябрьские сумерки, назавтра в школу, – но ближе к концу этих футбольных вечеров наступал всегда долгий застывший миг, когда настроение толпы резко менялось и все, дома и на экране, делалось зыбким, безотрадным: бело-металлический жар от двери в патио золотисто тускнел, за ним – долгие, серые тени, и вот в тишину пустыни падала ночь, тоска, от которой я никак не мог отделаться, память о молчаливых людях, которые гуськом тянутся к выходам со стадиона, и университетских городках на востоке, где идет холодный дождь.
Тогда меня охватывала необъяснимая паника. Эти дни – дни матчей – оканчивались в одну секунду, будто тебе кровь пустили, и это напоминало мне о том, как нашу нью-йоркскую квартиру рассовывали по коробкам и уносили прочь: неприкаянность, скитальчество, не за что уцепиться. Запершись у себя в комнате, я включал весь свет, курил траву, если было, и слушал на переносных колонках музыку – которую раньше не слушал, вроде Шостаковича и Эрика Сати, я их залил на айпод ради мамы, а потом рука не поднялась стереть, – и разглядывал библиотечные книжки, в основном по искусству, потому что они напоминали о ней.
“Шедевры голландской живописи”. “Золотой век Дельфта”. “Графика Рембрандта, его неизвестные ученики и последователи”. Посидев за школьным компьютером, я выяснил, что есть книжка про Карела Фабрициуса (совсем тоненькая, всего страниц сто), но у нас в библиотеке ее не было, а компьютеры в школе так внимательно проверяли, что моя паранойя мешала мне рыться в интернете – особенно после того, как я однажды бездумно перешел по какой-то ссылке (NET PUTTERTJE / ЩЕГОЛ, 1654) и попал на устрашающий официального вида сайт под названием “Розыск: предметы искусства и антиквариата”, на котором регистрироваться надо было с именем-фамилией и адресом.
Я так переполошился, увидев неожиданно слова “Интерпол” и “розыск”, что запаниковал и вообще вырубил компьютер, что делать было запрещено.
– Ты что наделал? – грозно спросил мистер Остроу, библиотекарь – я сразу не успел включить комп обратно. Он перегнулся через мое плечо и начал вбивать пароль.
– Я… – несмотря ни на что, я рад был, что не смотрел порнуху, когда он открыл историю посещенных сайтов. Я все хотел купить себе дешевенький ноут на те пятьсот баксов, что отец подарил на Рождество, но деньги каким-то образом утекли сквозь пальцы… Предметы искусства в розыске, твердил я себе, нечего паниковать из-за слова “розыск”, уничтоженные предметы искусства не будут ведь разыскивать, правда? Имени своего я, конечно, там не оставил, но переживал, что залез в эту базу со школьного ай-пи-адреса. Насколько я знал, следователи, которые ко мне приходили, следили за моей судьбой и знали, что я в Вегасе, – связь хоть и незначительная, но ощутимая.
Картина была спрятана – довольно умно, как я считал, в чистую хлопковую наволочку и приклеена клейкой лентой к изголовью кровати. От Хоби я узнал, как аккуратно надо обходиться со старинными вещами (иногда, если предмет был очень уж хрупкий, он надевал белые хлопковые перчатки), и никогда не трогал полотно голыми руками, брался только за краешки. Я никогда его не вынимал – разве что когда отца с Ксандрой дома не было и я знал, что они еще долго не вернутся, но, даже не видя его, я радовался, что картина тут, из-за глубины и осязаемости, которые она всему придавала, из-за того, как она укрепляла основание всех вещей, из-за ее невидимой, краеугольной правильности, которая утешала меня точно так же, как утешало знание о том, что далеко-далеко, в Балтийском море плавают себе киты, а монахи в диковинных временных поясах безустанно молятся о спасении мира.