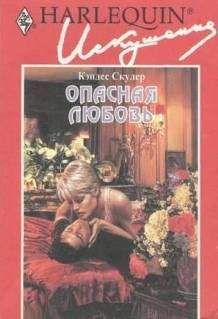Хуан Онетти - Избранное
После чего он прошел в гулкий, пустынный коридор, свернул налево и должен был подождать, пока другой страж в униформе и с маузером не задал ему какие-то вопросы. Там еще был старичок в свитере и альпаргатах; он ушел, потом вернулся, сделал Ларсену знак головой и повел его по лабиринту прямых коридоров, где было холоднее, воняло отхожим местом и подвалом. Возле висевшего на стене огнетушителя старик остановился и открыл без ключа дверь.
— Сколько времени могу я пробыть? — спросил Ларсен, вглядываясь в полумрак за дверью.
— Пока не надоест, — ответил старик, пожав плечами. — Потом сочтемся.
Ларсен вошел, но постоял, пока не услышал, что дверь закрыли. Он находился не в камере — это было помещение канцелярии с составленной в кучу мебелью, со стремянками и банками с краской. Изобразив на лице приветствие, Ларсен шагнул вперед, но ошибся в направлении и тяжело покачнулся, услышав запах скипидара. Вдруг он заметил узника справа от себя — тот сидел в углу за небольшим письменным столом — маленький, быстрый, чисто выбритый — и словно подстерегал Ларсена, словно заранее так расставил мебель, чтобы захватить его врасплох, словно это начальное преимущество могло ему обеспечить некую победу при встрече.
Старик казался еще старее и костлявее, еще более длинными и белыми стали каемки бакенбард, еще более возбужденно блестели глаза. Руки его покоились на кожаной обложке закрытой тетради, единственном предмете на прямоугольнике потертого зеленого сукна, покрывавшего письменный стол. Почти с первого взгляда к Ларсену снова вернулись энергия и смутные стремления, исчезнувшие во время разлуки.
— Итак, мы здесь, — сказал он.
Старик, волнуясь и стараясь не подавать виду, обнажил кончик клыка и тотчас его прикрыл. Рот опять стал тонкой горизонтальной извилистой линией. Чтобы обзавестись таким ртом, Петрусу, вероятно, не пришлось с детства повторять слова презрения и отказа, другие люди, вероятно, потрудились в течение веков, чтобы дать ему в наследство рот в виде простой скважины, необходимой, чтобы есть и говорить. «Такой рот можно было бы убрать с лица, и окружающие бы даже не заметили. Такой рот защищает от мерзкой близости и освобождает от искушения. Не рот, а могильный ров». Через штору, почти полностью закрывавшую балкон, проникал мягкий серый свет, а в углу окна нежно алело треугольное, крупное августовское солнце. Вплотную к шторе стоял черный кожаный диван с грудой сложенных одеял и маленькой, плоской, жесткой подушкой. Тот угол был спальней Петруса, такой непохожей на спальни в свайном доме у реки, где лежали большие пухлые подушки в наволочках с каймою пестрой вышивки крестиком, которая изображала памятные семейные даты или крестьянские узоры и подсказывала неожиданный второй смысл пословицы: «Ein gutes Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen»[40].
— Да, мы здесь, — с горечью повторил Петрус. — Но по разным поводам. Садитесь. У меня мало времени, надо заниматься многими проблемами.
— Минуточку, прошу вас, — сказал Ларсен. Он чувствовал себя обязанным соблюдать почтительность, но не послушание. Оставив шляпу в углу зеленого стола, он подошел к шторе, чтобы приподнять ее и сделать забавный, машинальный жест, который год спустя будет утром и вечером повторять комиссар Карнер, только этажом выше.
Он увидел пятнистый круп коня и изогнутый буквой «S» хвост; ветви платанов заслоняли Основателя, Ларсен разглядел лишь бахрому пончо на одном бедре да высокий сапог, небрежно вставленный в стремя. Честно, с напряжением, Ларсен попытался постигнуть этот момент своей жизни и всего мира: кривые, темные деревья и свежие листья на них; свет, падающий на бронзовый зад коня; заточение, тайное страдание среди провинциального тихого дня. Смиренно и беззлобно Ларсен опустил штору — надо было возвращаться к иной правде, иной лжи. Покачиваясь корпусом, он нащупал стул и сел секундой раньше, чем Петрус холодно и терпеливо повторил:
— Прошу вас, садитесь.
«Почему именно это, а не что-нибудь другое. Какая разница! Почему он и я, а не какие-нибудь другие два человека.
Он в тюрьме, он человек конченый, изжелта-белый его череп каждой своей морщиной говорит: уже нет предлогов, чтобы обманывать себя, чтобы жить, чтобы предаваться страсти или браваде в какой бы то ни было форме».
— Я уже несколько дней жду вашего посещения. Я отказывался поверить, что вы дезертировали. Для меня-то ничего не изменилось — я бы даже мог сказать, что со времени нашей последней встречи дела улучшились. Да, разумеется, я временно изолирован, я отдыхаю. Но этот нелепый шаг, это временное заточение в тюрьму — последнее, что могут сделать мои враги, самый сильный удар, который они способны нанести. Еще несколько дней пребывания в этой канцелярии — менее удобной, чем прежние, но в основном такой же, — и мы придем к концу полосы неудач. А пока я не теряю времени; мне оказали любезность, оградив меня от людей; теперь никто мне не мешает, не отнимает времени, и это мне позволяет спокойно и окончательно решать мои проблемы. Могу вам признаться — я нашел решение для всех трудностей, которые тормозили работу предприятия.
— Замечательная новость, — сказал Ларсен. — Все будут чрезвычайно рады, когда я возвращусь на верфь и сообщу об этом. Разумеется, если вы меня уполномочите.
— Да, можете сказать, но исключительно высшему персоналу, тем, кто доказал свою преданность. Я покамест не удосужился выяснить причину моего ареста. Кажется, он вызван доносом по поводу той пресловутой акции, о которой мы с вами говорили. Что произошло? Неужели порученная вам миссия потерпела неудачу или вы вошли в сговор с моими врагами?
Ларсен улыбнулся и принялся очень медленно раскуривать сигарету, затем он заставил себя с ненавистью взглянуть на эту птичью голову, выжидающе и фанатично обращенную к нему, убежденную во всяческих победах, в том, что никто не оспорит ее правоту до самого конца.
— Вы знаете, что это не так, — медленно сказал Ларсен. — Не зря ведь я здесь, не зря явился, как только узнал, что вы арестованы. — Но хотелось ему сказать другое: «Я сделал все возможное. Я перенес унижения и причинял их. Я прибегал к неким видам насилия, которые вам известны так же, как мне, не больше и не меньше, чем мне, и жертва которых неспособна их описать и обвинить, так как неспособна их понять, отделить от своего страдания и постичь, что в них-то и состоит его причина. Вам наверняка приходилось применять эти виды насилия каждый день. Вы знаете и все остальное, знаете так же, как я, но не лучше, потому что оба мы — люди и наши возможности в подлости одинаковы и ограничены: хитрость, преданность, терпимость, даже самопожертвование — когда прилипаешь к боку ближнего, как пловец, желающий спасти другого от быстрого течения и помогающий ему пойти на дно — почти всегда по его же просьбе, и именно тогда, когда нам это кстати». — Единственное, за что меня можно осуждать, — это за неудачу.
Петрус втянул голову, как черепаха, опять показал желтые зубы, на сей раз более щедро. Нет, он не осуждал бесповоротно: глубоко сидевшие блестящие глазки смотрели на Ларсена задумчиво, почти жалостливо, с веселым любопытством.
— Что ж, я в вас верю. Я никогда не ошибаюсь в оценке человека, — сказал наконец Петрус. — По существу, это не имеет значения. Я могу доказать, что не знал о существовании поддельных акций. Или же никто не сможет доказать, что я что-то знал. Оставим это. Важно то, что час торжества справедливости близок — это вопрос дней, самое большее недель. Теперь более, чем когда-либо, мы нуждаемся в способном и преданном человеке для управления верфью. Чувствуете ли вы в себе силы и необходимую веру?
Ларсен ответил утвердительным кивком, чтобы выиграть время, пока его легкие снова привыкнут к атмосфере несуразного, сдвинутого бытия, в которую он был погружен всю зиму и которая теперь внезапно стала для него невыносимой, остро ощутимой. С подобной атмосферой вначале трудно мириться, а потом ее почти невозможно чем-нибудь заменить.
— Можете на меня рассчитывать, — сказал он, и старик усмехнулся. — Но, разумеется, я потратил на верфи немало времени, и я уже немолод. Теперь работа там нетрудная, согласен, хотя ответственность весьма велика. О жалованье я пока не хочу говорить, единственно полагаю уместным заметить, что его не выплачивают либо выплачивают нерегулярно. Думаю, я вправе просить гарантию компенсации, когда придут хорошие времена.
Петрус вдруг откинулся назад, и кожа на его лице растянулась по всем мелким косточкам. Какой-то миг Ларсен был уверен, что голова эта вознеслась куда-то очень высоко над полутьмою комнаты, в некие области невыносимого благоразумия, в давний исчезнувший мир. Петрус медленно поднял большие пальцы к кармашкам жилета и приблизил свое лицо к Ларсену. Чуть-чуть презрительное, оно выражало легкое, насмешливое сожаление человека, вынужденного общаться с прочими людьми.