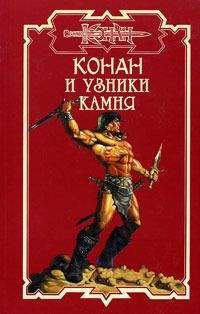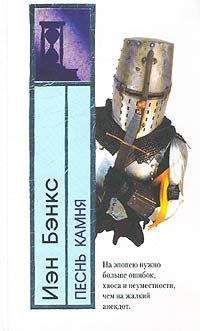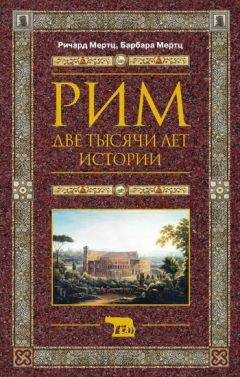Джеймс Олдридж - Герои пустынных горизонтов
Гордон понимал, что Зейн прав. Охота в разгаре, и тот или иной меткий выстрел скоро настигнет их. Единственный шанс на спасение — как можно скорее выбраться с территории огня.
— Я могу передвигаться за тобой ползком, — сказал Гордон.
— Нет, это не годится. Нам нужно спешить.
Зейн встал, взвалил Гордона на плечи и побежал, виляя и спотыкаясь, к другой небольшой впадине в песке. Там он передохнул с минуту и побежал дальше, повторяя задыхающимся, прерывистым голосом, что нужно торопиться, а то эти новоиспеченные снайперы рано или поздно пристреляются к цели, несмотря на знойное марево, застилающее перспективу.
Если спасение зависело от твердой решимости Зейна не давать себе передышки, то оно было обеспечено: сбросив свои остроносые туфли, бахразец упорно бежал вперед, падал, поднимался и снова бежал, хотя Гордон ждал каждый миг, что эта гибкая опора из мяса и мышц подломится под ним и рухнет. Казалось, давно уже были перейдены все мыслимые пределы человеческой выносливости, а Зейн все бежал и бежал, и только когда уже можно было считать, что опасность миновала, он сбросил свою ношу с плеч и повалился на песок. Он кашлял и задыхался, его смуглое лицо приняло серый, землистый оттенок, но у него еще хватало сил честить Гордона на чем свет стоит, не щадя святынь религии и материнства. Площадные ругательства, должно быть, много лет хранившиеся без употребления в закоулках памяти спокойного, выдержанного бахразца, так и сыпались с его языка.
Потом, когда рана была уже обработана и перевязана с помощью средств из походной аптечки Смита, Гордон сказал Зейну:
— Что-то я не слышал ни слова о политике в этом извержении брани.
Этот разговор происходил много позже; они находились в полной безопасности, и Гордон нарочно напомнил Зейну о его припадке сквернословия, чтобы подразнить его.
— И куда только девался весь твой мороженый пуританизм! Да, это было здорово! По-настоящему здорово! Но кто бы мог подумать, что в тебе таятся такие нерастраченные возможности! Ну, ну, не смущайся. Мне-то хорошо знакомы все эти подспудные бури. Но я не ожидал подобных взрывов от тебя.
Бахразец, однако, и не думал согнуться, как тростник под ветром, под тяжестью этого обвинения. Он расхохотался и ответил: — В тебе говорит твоя чрезмерная серьезность и праведность, Гордон. Я научился ругаться там, где горе и невзгоды делают брань формой протеста против несправедливости, формой вызова судьбе. И не ищи в моих ругательствах какого-то внутреннего самоунижения. Эх! Отвык я, вот это жаль. Ты не слышал и половины тех отборных словечек, которыми у нас на городских улицах постоянно обкладывали правящую сволочь.
— Ну вот! Теперь ты все испортишь политикой! — запротестовал Гордон.
Бахразец собирался уезжать со Смитом. Он все еще был бос — туфли его остались в пустыне, — но от этого только казался, на взгляд Гордона, еще более складным, еще более исполненным естественной грации.
— Оглянись-ка лучше на себя, Гордон, — ответил Зейн, поднимаясь со своего места. — Ты сам портишь много хорошего, рискуя и вовсе погубить. Надеюсь, эта царапина на пятке послужит тебе уроком. Прошу тебя, брат, не рискуй собой, не затевай бессмысленной игры со смертью. Если ты погибнешь ни за что, ни про что, это будет слишком большая потеря.
— Ба! Зачем так серьезно! — возразил ему Гордон. — Я считаю, что с пяткой мне просто повезло. Лучшего места для раны и не придумаешь. Теперь совершенно ясно, что при рождении меня искупали в Стиксе. Я неистребим. Конечно, ты вправе ждать от меня благодарности за то, что благополучно дотащил меня сюда. Но ведь на то мы и братья. Знаешь, Зейн, мне все больше и больше кажется, что и ты и я уже когда-то жили, и в той, прежней жизни мы наверняка были сыновьями одной матери. Ах, боже мой! Вспомним всех знаменитых близнецов древности, — увы, их роль в истории почти всегда была трагической. Как видно, наша с тобой трагедия заключается в потрясающем несходстве целей, которые мы себе ставим, в том, что мы так по-разному смотрим на жизнь и на мир. Вон оно, наше трагическое противоречие — эти проклятые нефтепромыслы! Когда я о них думаю, я боюсь тебя, брат! Тебя и твоей пролетарской приверженности к технике. Меня так тревожат твои замыслы, твои, намерения! Не будем из-за них убивать друг друга, Зейн. Пусть хоть в этом наша судьба сложится иначе. Постой, еще только одно! — крикнул он, увидя, что Смит, потеряв терпение, включил мотор. — Если в моторизованных частях у твоих фанатиков найдется мотоцикл, прошу тебя, пришли его мне. Пешком я тут еще могу ковылять, но доверить свою драгоценную ногу безмозглому верблюду не решусь ни за что. До свидания, брат. Чувствую, что следующая наша встреча состоится уже в стенах Трои, и это будет конец всему.
Но этот намек, сделанный в полушутливой форме, не был принят всерьез. Хотя у Гордона уже созрело решение самому захватить нефтепромыслы, прежде чем подоспеют туда бахразские революционеры, легкость его тона и непривычное многословие обманули Зейна. Чтобы утишить боль в ноге, он наглотался пилюль из аптечки Смита. Нога теперь двигалась свободно, но рана не зажила, и боль жестоким страданием отдавалась во всем его существе. Он, однако, уверял, что чувствует себя хорошо и гораздо скорей поправится здесь, в пустыне, среди своих воинов, чем в какой-то дурацкой деревне, где ему предлагали отлежаться до полного выздоровления. На том они и расстались; но не успел броневик Смита скрыться за горизонтом, как Гордон позвал Бекра и приказал подобрать для него верблюда и готовиться к выступлению: завтра или послезавтра, как только будет выработан план действий, они начнут штурм нефтепромыслов.
ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ
«Через несколько минут, — записывал Гордон в книжечке с черной обложкой, — я начну штурм аравийских нефтепромыслов. Чтобы сократить эти томительные минуты, я пристроился подле своего верблюда и при неверном, раздражающем свете луны строчу эти излияния.
Письмо получается странное, да это, в сущности, и не письмо вовсе. Сам не знаю, мама, почему я решил адресовать его вам. Во всяком случае прошу вас не смотреть на это, как на дневник, исповедь или документальную запись. Или как на новые семь столпов мудрости, вроде тех, которые издатель Лоуренса решил вколотить в головы читателей сразу десятитысячным тиражом. Впрочем, я теперь понимаю, что в свое время заставило Лоуренса написать эту жалкую книгу, В минуту отчаяния он чувствовал потребность ткнуть пальцем в собственное кровоточащее сердце, иначе даже самые близкие люди не увидели бы, как оно бьется.
То же чувствую и я. Illustro![22]
Но здесь вы не найдете семи столпов Соломоновых. Можете счесть эти писания Невидимым восьмым — той незримой опорой, на которой покоится свод храма Истины, когда рухнут остальные семь (именно так случилось у Лоуренса). Вот я и служу сейчас такой последней кариатидой истины и хочу подробно рассказать вам, как это у меня выходит. Нагрузка, конечно, большая, но я пока держусь. Так что читайте со вниманием. Эта книжечка вам многое откроет обо мне, ниоткуда вы столько не узнали бы. Ибо начинается моя настоящая жизнь.
Сегодня, после двух дней лихорадочной подготовки, я должен совершить то, что задумал. Должен захватить нефтепромыслы, принадлежащие англичанам, прежде чем они попадут в руки бахразских революционеров, — и притом без ведома Хамида, потому что я не могу делать его соучастником вероломства по отношению к его союзникам. Но должен признаться (вам это будет интересно, мама), что сейчас, накануне решительного часа, я гораздо меньше думаю о собственных делах в Аравии, чем о том, какая это вопиющая глупость со стороны англичан — делать ставку на местных политических деятелей и солдат из местного населения. Я всегда это говорил, но повторяю еще и потому, что мне теперь предстоит проверить на деле свою давнишнюю теорию относительно никчемности оловянных солдатиков полковника Уинслоу — того самого Бахразского легиона, с помощью которого Азми рассчитывает удержать нефтепромыслы. Кстати, с Азми у меня старые счеты: я не забыл поражения, которое мне пришлось потерпеть на болотах.
Хамид видит в Легионе самого сильного своего противника; он потому и оттягивает штурм нефтепромыслов, что еще не уверен в превосходстве своих сил. Даже мой двойник, союзник и антипод Зейн, относится к Легиону с уважением, потому что при всем своем фанатизме, при всей слепой вере в собственные боевые силы (рабочее ополчение, набранное из всякого сброда). считает легионеров дисциплинированными солдатами, не в пример всей бахразской армии, которая так быстро развалилась сама собой.
Но логика, интуиция и знание истории говорят мне (хотя других данных у меня и нет), что, когда качества этого бутафорского войска будут подвергнуты последнему и решительному испытанию, оно развалится еще скорей и с еще большим позором.