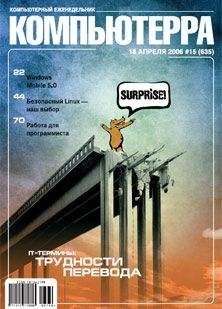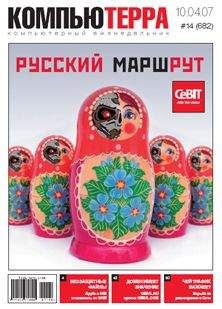Иэн Макьюэн - Искупление
Новых раненых привозили каждый день, но поток их не был уже таким мощным. Система пришла в норму, и теперь каждый лежал на своей кровати. Тех, кому требовалось хирургическое вмешательство, готовили и отвозили в операционные, располагавшиеся по-прежнему в полуподвальном этаже. После этого большинство пациентов отправляли для завершения лечения в отдаленные госпитали. Смертность среди раненых оставалась высокой, но для практиканток это перестало быть драмой — обычная рутина: загородить ширмой кровать, у которой священник отпевает умершего, натянуть простыню на лицо, позвать санитаров, снять грязное и постелить чистое белье. Как быстро блекли и сливались в памяти лица ушедших! Лицо сержанта Муни наплывало на лицо рядового Лоуэлла, они обменивались своими смертельными ранами между собой и с другими солдатами, чьих имен уже не вспомнить.
Теперь, когда Франция пала, считалось, что скоро начнутся бомбежки и артобстрелы Лондона. Никому без крайней необходимости не рекомендовалось оставаться в городе. Окна нижних этажей обложили дополнительными мешками с песком, ополченцы проверяли состояние дымоходов и прожекторов, установленных на крышах. Несколько раз проводили учения по эвакуации больных из помещения — с сурово выкрикиваемыми командами и свистками. Репетировали также тушение пожаров, доставку раненых на сборные пункты, надевание противогазов на не способных двигаться больных и тех, кто находился в бессознательном состоянии. Сестрам постоянно напоминали, что в первую очередь они обязаны надеть противогазы сами. Сестра Драммонд больше не терроризировала подопечных. Теперь, когда они приняли крещение кровью, она уже не разговаривала с ними как со школьницами. Распоряжения отдавала хладнокровно, профессионально-бесстрастно, и им это льстило. В такой новой обстановке Брайони не составило труда поменяться дежурствами с Фионой, которая великодушно согласилась отработать субботу вместо понедельника.
Из-за административной неразберихи кое-кто из идущих на поправку раненых остался в госпитале. Несмотря на то что они отоспались и при регулярном питании немного отъелись, даже среди тех, кто не стал инвалидом, царило мрачное настроение. Большинство из них были пехотинцами. Они лежали на койках, курили, уставившись в потолок, и перебирали в памяти события последних недель. Или собирались маленькими группками и вели бурные беседы. Эти люди презирали себя. Некоторые говорили Брайони, что не сделали ни единого выстрела. Но самое бурное негодование вызывали у них высшее командование и собственные офицеры, бросившие их на произвол судьбы во время отступления, а также французы, сдавшиеся без боя. Их возмущала поднятая в печати бравурная кампания, представлявшая бегство как чудо спасения и превозносившая героизм команд маленьких судов. Брайони слышала, как они говорили:
— Это ж была просто бойня, мать их! Сраные ВВС.
Некоторые солдаты недружелюбно относились даже к медикам, не делая различия между генералом и нянечкой. Для них все они были представителями безмозглого начальства. Чтобы вразумить таких солдат, понадобился авторитет самой сестры Драммонд.
В субботу утром Брайони покинула больницу в восемь часов, еще до завтрака, и двинулась вдоль берега реки, вверх по течению. Пока она шла до ворот Ламбетского дворца,[38] мимо проехало три автобуса. Но теперь на лобовых стеклах отсутствовали указания маршрутов — «чтобы враг не догадался». Впрочем, это не расстраивало Брайони, потому что она заранее решила идти пешком. То, что она запомнила названия нужных улиц, оказалось бесполезным: таблички были сняты или замазаны краской. Она смутно представляла, что ей нужно пройти вдоль берега реки мили две, потом повернуть налево, то есть на юг. Большая часть карт города была конфискована по приказу властей. Брайони с трудом удалось раздобыть мятый план старого — еще выпуска двадцать шестого года — автобусного маршрута. Он протерся на сгибах, в том числе и на месте, совпадавшем с ее собственным предполагаемым маршрутом. Разворачивать план было рискованно — он мог разорваться. Кроме того, Брайони боялась, что это вызовет у кого-нибудь подозрения. В газетах писали о немецких парашютистках, маскирующихся под сестер милосердия и монашек: они якобы разбредаются по городам и смешиваются с местным населением. Рекомендовалось распознавать их по картам, с которыми они могут время от времени сверяться, по слишком правильному английскому языку, на котором они могут спрашивать дорогу, и по незнанию общеизвестных детских стишков. Вспомнив о подобных предупреждениях, Брайони уже не могла расстаться с этой мыслью, ей постоянно казалось, что она выглядит подозрительно. Она-то надеялась, что сестринская форма будет ей защитой на чужой территории, а оказалось, что одежда делает ее похожей на шпионку.
Идя против движения транспорта, она мысленно повторяла детские стишки. Очень немногие она помнила от начала до конца. Впереди остановился конный фургон молочника, возница сошел и стал подтягивать подпругу, что-то бормоча лошади. Остановившись рядом с ним и вежливо покашляв, Брайони вдруг вспомнила старого Хардмена с его возком. Все, кому сейчас семьдесят, в тысяча восемьсот восемьдесят восьмом году были ее ровесниками. То был век конной тяги, по крайней мере уличной, и старикам было ненавистно думать, что он возвращается.
Молочник очень дружелюбно откликнулся на ее просьбу и путано рассказал, куда ей идти. Это был дородный мужчина с пожелтевшей от табачного дыма седой бородой. Видимо, он страдал от полипов в носу, потому что его слова сочились, словно перетекая одно в другое, на фоне вырывавшегося из ноздрей свиста и сопения. Он махнул рукой налево, в сторону развилки дорог под железнодорожным мостом. Брайони показалось, что еще рано удаляться от реки, но, продолжив путь, она спиной почувствовала, что молочник наблюдает за ней, и сочла невежливым не последовать его указаниям. Вероятно, дорога, отходившая от развилки влево, позволяла срезать угол.
Ее удивило, насколько неприспособленной и робкой она оказалась после всего, что довелось повидать в последние дни. Перестав быть частью привычного коллектива, она нервничала и чувствовала себя не в своей тарелке. Вот уже несколько месяцев она жила в закрытом мире и знала свое скромное место в отделении, где каждая минута была строго расписана. Чем лучше Брайони работала, тем легче ей было повиноваться распоряжениям и следовать правилам, отрешившись от мыслей о себе. Давно уже ей не приходилось принимать решений самостоятельно — с тех самых каникул дома, когда она печатала свой опус и испытывала волнение, казавшееся теперь таким нелепым.