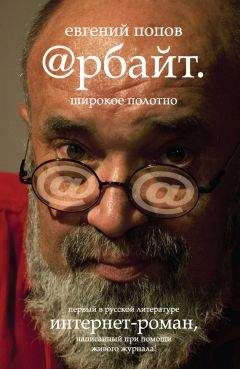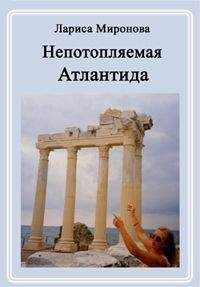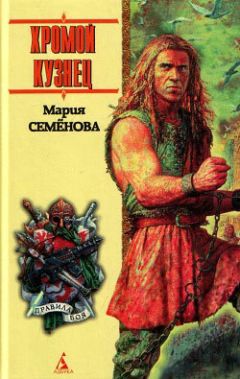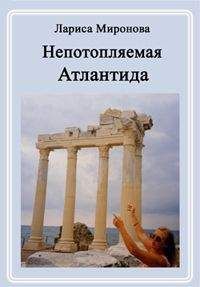Лариса Миронова - На арфах ангелы играли (сборник)
Наконец, стукнула дверь в сенях и вошла Мария. Лицо её было бледным и потерянным.
– Ба! Кто умер, а?
Мария ничего не ответила. Алеся свесилась с печки, чтобы лучше разглядеть глаза Марии – что она там себе думает? И почему молчит?
Но эти горящие глаза на мелово бледном лице испугали её ещё больше, чем глухое молчание Марии. Даже плач Ганны со всеми её ужасными и жалобными причитаниями не был так страшен!
Мария достала из сундука Василисину икону – старинную, бисерную. Нежное шитье хорошо смотрелось в резком, жарком, как теперешние глаза Марии, окладе. Она поставила образ рядом с привычной иконой Казанской, опустилась на колени и стала молиться: «Матерь Божья, Неопалимая Купина!..»
Такой Алеся свою бабушку никогда не видела. Даже на похоронах Василисы она была живее!
Но вот в сенцах опять загомонили. Вошли две бабы, за ними – Ганна. Вошли без стука, не сняли калоши, сразу двинулись в залу. И там все трое, дружно начали плакать и причитать. Потом Мария сказала: «Пойдем-ка да грамады!» – и она ушли, громко плача уже на улице.
Ясно, что так ничего не выяснить. Алеся тихонечко слезла с печки, оделась, отыскала под лавкой старые сапожки, сняла с гвоздя у двери свою шубку, вывешенную там для просушки, и скорее на улицу!
Как много народу, оказывается, живет в Ветке! Даже на праздники, когда бывали демонстрации, их столько не собиралось на улицах и площади! Но узнать что-либо конкретное ей так и не удалось. Люди или плакали, вытирая лица платками или ладонью, или молча стояли в длиннющих, как хвост дракона, очередях за керосином и мукой.
На городской площади из репродуктора лилась и лилась бесконечная траурная мелодия. Она слышала такую музыку на Благовещение, когда хоронили одного человека их райкома. По улице шла процессия, и Алеся, с перевязанным горлом, высунулась наполовину из форточки, чтобы получше всё рассмотреть.
«Ах, ты, ирад цара нябеснага! – закричала на неё Мария. – Усю хату выстудишь!»
Форточку закрыли, а её загнали на печку, но кое-что всё же удалось рассмотреть. Это были очень странные похороны – без батюшки и череды плачущих старух. На специальных подушечках, впереди гроба, несли ордена, их было пять.
… А траурные марши всё звучали и звучали. И на следующий день, и на следующий, и ещё на следующий…
Иван теперь подолгу палил на кухне свет – прочитывал кипы газет, какие-то брошюры, книги в тонких бумажных переплетах, без картинок. Вслушиваясь в монотонный голос Ивана, который, по старой привычке – приобщая Марию к политграмоте, читал вслух, Алеся понимала только одно: происходит нечто такое, что Ивана страшно мучает. Ей даже снились слова, которые Иван особенно часто повторял, читая газеты.
Лежа на краю печки с полузакрытыми глазами, она внимательно наблюдала за Иваном.
«…Объединить Министерство госбезопасности и Министерство внутренних дел… назначить министром внутренних дел Берию… военным министром Булганина… вместо двух органов ЦК один из десяти человек… товарищу Хрущеву сконцентрироваться на работе в ЦК… товарища Брежнева перевести на работу начальником Политуправления Военно-Морского Министерства…»
Алеся, незаметно для себя, уснула, и приснилось ей, что она работает в газете, и её послали пленум снимать. В руках у неё фотоаппарат, но затвор никак не щелкает, заедает почему-то. Тут к ней подходит высокий красивый человек с усами, в белом кителе и без фуражки и говорит ей строго: «Долго вы ещё будете мешать работе?» Она догадалась, что это сам вождь всего народа – Сталин, и вдруг видит, что в руках у неё не фотоаппарат, а большой аквариум, а в нем – живая черепаха. Тут Сталин тоже смотрит на аквариум, улыбается и хитро так говорит: «Что это вы, молодая тетенька, таким допотопным фотоаппаратом снимаете?» – «Он не старый, а самый свежий – видите, на нем год написан – 1956-й. А вас уже три года в живых как нет». – «Меня-то нет, – смеется Сталин, – а вот аппарат всё равно старый!»
Так говорит и начинает чинить затвор. Потом сам снимает пленум.
Алеся проснулась и увидела, что Иван уже не читает газету, а листает синюю книжку и делает в ней закладки.
– Дедушка, дай мне кружку молока, – просит Алеся, свешивая руку с печки.
– А ты что не спишь? – спрашивает Иван и снова углубляется в чтение.
Алеся снова засыпает, и ей снится всё тот же сон, но теперь снятся какие-то органы – болшая свиная печенка, огромный коровий желудок…
Их кто-то заменяет, снимает, переставляет, делает из них колбасу и сальтисон. Она погрузилась в сон так плавно, как будто съехала на санках по склону ровной горы и никак не могла из него выкарабкаться.
Потом ей приснился второй сон. Дедушка долго болеет, но вот стал поправляться. Хочет пойти погулять. Вдруг кричат – доктор едет! Ивана лечить!
Зачем? Он же итак выздоравливает. Но врач быстро подходит к постели. На ней лежит дедушка в сапогах. И врач говорит: «Слив не надо, приготовьте мяса!» Алеся заглядывает в лицо доктору и видит круглое, как миска с тестом, лицо с огромной, как фасолина, бородавкой…
Она кричит: «Это не доктор! Это Хрущ!»
Все бегут к ним, хватают врача и кричат: «Это не Хрущ! Это убийца в белом халате!»
Алеся бросается за этими людьми, чтобы вызволить дедушку, но вдруг начинает падать, падать, падать…
Сердце замирает, как в прыжке с огромной баржи солдатиком. От этого страшно и ужасно хорошо.
Она просыпается – её ловит Иван и говорит ласково: «Ну, девка, долетаешься, надо бы тебе пригородочку к печке сделать!»
Алеся засыпает в третий раз и попадает на ёлочный базар, где продают всё чудесное и вкусное – чем украшают и что кладут под ёлку. Они покупают всё это, а на часах уже – без пяти двенадцать. Мария говорит: «Кинь кашолку и бяги, паслухай, што ён буде гаварыть»…
Алеся бежит домой, хочет включить радио, а дом уже двухэтжный, на окнах – резные наличники. На крыльце – мужчина в черном костюме. Она думает, что это Иван, а это Ленин!
«Где была?» – строго спрашивает Ленин. – «На базаре с бабушкой».
Ленин дальше не слушает и топает ногой: «Сколько раз говорил – не ходить на рынок!» – сказал так и пошел в подвал. Алеся бежит за ним. А это не подвал, а библиотека! Ленин поднимает оторванный корешок и говорит: «Враги народа взорвали музей Маркса, это всё, что осталось от Бухарина». На корешке написано: «Социализм – третья фаза капитализма».
Алеся проснулась от холода. Вода в ведре покрыта коркой льда. – «Труба что ли открыта?» – подумала Алеся. Но труба была закрыта, а дверь в сени – настежь. Иван стоит на крыльце в наброшенном на плечи полушубке, курит «беломор», под ногами – куча окурков.
– Дедушка, что ли ты дверь открыл?
– Что, девка, говоришь? – говорит Иван и спускается вниз.
– Дедушка! А что такое? – спрашивает Алеся и подходит к нему. От Ивана пахнет неприятно, так пахнет от «сивушных чертей» на второй день после праздника.
Летом опять бегали и голосили бабы – агента поймали!
– Берия – агент иностранного капитала! – сказал Иван. – Чистая игра. Выходит, искусственные трудности с продовольствием – их рук дело?
– А як зноу вайна? – плакала Ганна. – Так што з им буде, з гэтым агентам?
– Судить будут.
– А вайны ня буде?
– Я не генштаб.
– Нидзе прауды не дабъешся, хтось адну брахню распускае… Перед самым Новым Годом Иван пришел опять «под мухой», долго молча курил, потом, глядя в стенку, глухо сказал:
– Расстреляли гада Берию.
Мария перекрестилась.
Иван приходил каждый день поздно, а то и вовсе не появлялся по нескольку дней. Измучившись до предела, он даже в Москву собрался ехать. Мария высмеяла его: «Ти ж там дурней тябе люди жывуть?»
Ивана назначили председателем комиссии по расследованию неполадок в совхозах района, и он неделями сидел на местах. Непорядка было столько, что никаких протоколов не хватало, чтобы записать всё на бумаге. В одном селе зерно сушить негде, и оно гниет. Заняли клуб под сушилку – негде молодежи собираться. Вот и пьют по углам вместо культурного отдыха…
В Хальче телят-трёхдневок поставили в одно стойло с годовалым скотом, и всех заразили. Падеж такой, что и припомнить ничего похожего невозможно. Там фельдшер людей лечить не хочет, сам поселился в амбулатории, дочку санитаркой взял, жену акушеркой, а в приёмной свиней держит.
Тягловая сила обезличена. Рабочие кони за ездовыми не закреплены. Дневные нормы корма не соблюдаются. И опять падеж в разгар сезона…
Удобрениями все хозяйства обеспечили, а на поля вывозить некому. Скот гибнет от голода – всю солому по хатам растаскали, и бригадир – первый вор.
Ввели закон о сельхозналоге – на твердых ставках, с одной сотки приусадебных земель, а никто не соблюдает!
Иван говорил, что в Москву ехать надо, а Мария молча слушала и только головой кивала. А когда он выходил на крыльцо покурить, под нос себе бормотала: