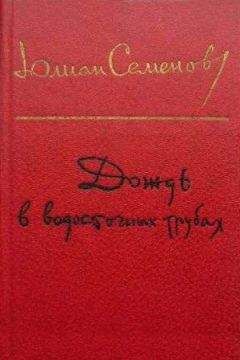Джером Сэлинджер - Собрание сочинений
Кофейный столик вермонтского мрамора — прямоугольный и довольно длинный — стоял параллельно и очень близко к дивану. Зуи резко шагнул к нему. Сдвинул в сторону пепельницу, серебряную сигаретницу и номер «Харперз Базар», затем сел в узкую щель прямо на холодную мраморную столешницу лицом к голове и плечам Фрэнни — почти нависнув над ними. Глянул на ее сжатую руку на голубом платке, после чего довольно нежно, держа сигару в руке, взялся за сестрино плечо.
— Фрэнни, — сказал он. — Фрэнсис. Пойдем, дружок. Не пропускать же лучшую часть дня… Пойдем, дружок.
Фрэнни проснулась резко — даже вздрогнув, словно диван неожиданно наехал на ухаб. Приподнялась на локте и сказала:
— Фу. — Прищурилась на утреннее солнце. — Почему такое солнце? — Она не вполне осознала, что Зуи рядом. — Почему такое солнце? — повторила она.
Зуи довольно пристально за ней наблюдал.
— Солнце, дружок, я ношу с собой повсюду, — ответил он.
По-прежнему щурясь, Фрэнни уставилась на него.
— Ты меня зачем разбудил? — спросила она. Сон еще тяжко обволакивал ее, и она не капризничала по-настоящему, но ясно было, что она ощущает некую растворенную в воздухе несправедливость.
— Ну… тут вот в чем дело. Нам с братом Ансельмо[205] предложили новый приход. На Лабрадоре, понимаешь ли. И нам бы хотелось, чтобы ты нас благословила перед нашим…
— Фу! — повторила Фрэнни и ладонью провела по макушке. Волосы ее, подстриженные по-модному коротко, сон перенесли очень хорошо. Ее прическа — к большому счастью наблюдателя — разделена была пробором посередине. — Ох, мне такой кошмарный сон снился, — сказала Фрэнни. Она чуть приподнялась и одной рукой запахнула халат. Заказной, из плотного галстучного шелка, бежевый, с красивеньким узором крохотных чайных роз.
— Продолжай, — сказал Зуи, затягиваясь сигарой. — Я тебе его истолкую.
Она содрогнулась.
— Просто кошмар какой-то. Такой паучий. У меня в жизни не бывало такого паучьего кошмара.
— Пауки, значит? Это очень интересно. Очень значимо. У меня был весьма интересный случай в Цюрихе несколько лет назад — юная дама, очень, должен сказать, похожа на вас…
— Помолчи секундочку, а то забуду, — сказала Фрэнни. Она жадно вгляделась куда-то, как обычно смотрят припоминатели кошмаров. Под глазами у нее залегали круги; имелись и другие признаки обостренного девичьего неблагополучия, но все равно было видно, что она — первоклассная красотка. Кожа отличная, черты нежны и весьма необычны. Глаза у нее были почти того же крайне поразительного оттенка синевы, что и у Зуи, но посажены шире, как, вне сомнений, и полагается сестрам, да и вообще такие глаза, в отличие от глаз Зуи, каждый день, если можно так выразиться, не носят. Где-то четырьмя годами ранее, когда Фрэнни выпускалась из интерната, ее брат Дружок изуверски напророчил себе, пока она ухмылялась ему со сцены, что сестра, по всей вероятности, однажды выйдет замуж за чахоточного. Выходит, в ее глазах виделось и это. — Ох господи, вспомнила! — сказала она. — Просто отвратительно. Я где-то в плавательном бассейне, и целая толпа народу заставляет меня нырять за банкой кофе «Медалья д’Оро», которая лежит на дне. И только я выплыву, они заставляют меня снова нырять. Я плачу и твержу всем: «На вас же купальники. Поныряли бы сами?» — а они только смеются и ехидничают, и я снова и снова ныряю. — Ее опять передернуло. — И там были две девчонки, которые со мной в общаге живут. Стефани Логан и еще одна, я ее вообще не знаю — я вообще-то ее всегда ужасно жалела, потому что у нее такое кошмарное имя. Шармон Шерман. Они обе держат огромное такое весло и все пытаются меня им двинуть, как только я выныриваю. — Фрэнни на миг прикрыла глаза рукой. — Фу! — Она потрясла головой. Задумалась. — Какой-то смысл во сне был только у профессора Таппера. То есть это единственный человек, про которого я точно знаю, что он меня не переваривает.
— Не переваривает, значит? Очень интересно. — Сигара снова торчала у Зуи во рту. Он медленно повращал ее в пальцах, словно толкователь снов, которому всего не рассказали. Явно очень довольный. — Почему он вас не переваривает? — спросил он. — Без абсолютной искренности, вы же понимаете, руки у меня…
— Он меня не переваривает, потому что я хожу к нему на этот дурацкий семинар по религии и никак не могу заставить себя улыбнуться, когда он дает обаяния и оксфордства. Он у нас из Оксфорда по лендлизу или чего-то вроде, а на самом деле — старое самодовольное фуфло с такими непокорными густыми сединами. По-моему, он перед занятиями специально в туалет заходит и там их ерошит — вот честно. На свой предмет ему вообще наплевать. На свое «я» — нет. А на предмет — да. Что нормально само по себе — то есть, в общем, тут ничего странного, — но он вечно отпускает какие-то идиотские намеки, что, дескать, сам он — Реализованный Человек, и мы, детки, должны быть счастливы, что он живет в одной с нами стране. — Фрэнни скривилась. — Со смаком он только одно делает — когда не бахвалится то есть: поправляет, если кто-то скажет, что это санскрит, а это пали. Он просто знает, что я его не выношу! Видел бы ты, какие я ему рожи корчу, когда он не смотрит.
— А что он делал у бассейна?
— Вот в том-то и штука! Ничего! Абсолютно ничего! Стоял, улыбался и смотрел. Хуже всех.
Зуи, глядя на нее сквозь сигарный дым, бесстрастно произнес:
— Ты жутко выглядишь. Тебе известно?
Фрэнни уставилась на него.
— Мог бы все утро здесь проторчать и этого не говорить, — сказала она. Затем добавила многозначительно: — Только не нуди снова в такое прекрасное раннее утро. Пожалуйста, Зуи. Я не шучу, а?
— Никто не собирается нудить, дружок, — ответил Зуи тем же бесстрастным тоном. — Просто вышло так, что выглядишь ты жутко. Съела бы чего? Бесси говорит, у нее там есть куриный бульон, который…
— Если кто-нибудь еще хоть раз помянет куриный бульон…
Однако внимание Зуи отвлеклось. Он смотрел на омытый солнцем платок — там, где кашемир укрывал икры и лодыжки Фрэнни.
— Кто там? — спросил он. — Блумберг? — Зуи мягко потыкал пальцем в довольно крупный и причудливо подвижный комок под платком. — Блумберг? Это ты?
Комок шевельнулся. Теперь Фрэнни тоже смотрела на него.
— Не могу от него избавиться, — сказала она. — Он вдруг ни с того ни с сего совсем по мне с ума сходит.
Простимулированный пытливым перстом Зуи, Блумберг вдруг потянулся, затем стал медленно рыть тоннель наверх, к коленям Фрэнни. В тот миг, когда его непривлекательная голова вынырнула к солнцу, Фрэнни подхватила его под передние лапы и подняла на уровень интимного объятия.
— Доброе утро, дорогуша Блумберг! — сказала она и рьяно поцеловала его между глаз. Кот с отвращением моргнул. — Доброе утро, старый, жирный, вонючий котяра. Доброе, доброе, доброе утро! — Она одаривала его одним поцелуем за другим, от кота же ни единой волны взаимной нежности не поднялось. Он предпринял неумелую и довольно неистовую попытку добраться до ключицы Фрэнни. Очень крупный, серо-крапчатый «кастрат». — Какой нежный, а? — с восторгом произнесла Фрэнни. — Я никогда не видела, чтоб он так нежничал. — Она посмотрела на Зуи — вероятно, за подтверждением, — но лицо брата за сигарным облаком оставалось уклончиво. — Погладь его, Зуи! Посмотри, какой он милый. Погладь его.
Зуи вытянул руку и провел по выгнутой спине Блумберга — раз, два, — затем бросил, поднялся с кофейного столика и через всю комнату добрел к роялю. Тот боком, открытый настежь во всей своей черной «стайнуэевой» огромности, стоял против дивана, и табурет его располагался почти прямо напротив Фрэнни. Зуи сел на табурет — опасливо, — потом с очень откровенным интересом присмотрелся к нотам на пюпитре.
— У него столько блох, что даже не смешно, — сказала Фрэнни. Она немного посражалась с Блумбергом, пытаясь согнуть его в позу покорного ручного котика. — Вчера вечером я нашла на нем четырнадцать блох, только на одном боку. — Она могуче пригнула вниз ляжки Блумберга, после чего перевела взгляд на Зуи. — А как сценарий, кстати? — спросила она. — Его таки прислали вечером?
Зуи не ответил.
— Господи, — сказал он, не отводя глаз от нот на пюпитре. — Кто это вытащил? — Ноты были озаглавлены «Не надо быть гадюкой, крошка». На вид им стукнуло лет сорок. На обложке сепией воспроизводился портрет мистера и миссис Гласс. Мистер Гласс — в цилиндре и фраке, равно и миссис Гласс. Они довольно ослепительно щерились в камеру, оба подавались вперед, широко расставив ноги, и опирались на парадные трости.
— Что это? — спросила Фрэнни. — Мне не видно.