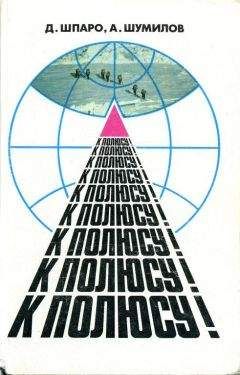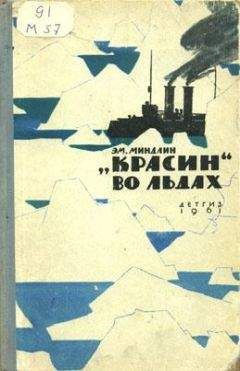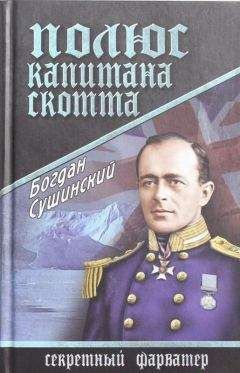Андрей Добрынин - Смерть говорит по-русски (Твой личный номер)
Розе умолк на минуту, глотая пиво, затем затянулся сигаретой и продолжал:
— Я к чему об этом рассказываю? Всегда стоит задуматься над тем, что ты делаешь сейчас, и тогда можно представить себе свое будущее. Немцы на Восточном фронте тоже не задумывались над тем, что они воюют: они говорили, что выполняют свой долг, а все остальное не их ума дело. Но вслед за ними шли зондеркоманды, а потом и их самих посылали жечь деревни и убивать мирное население. Немцы творили страшные грехи, и я презираю тех, кто говорит, что во всем виноваты только эсэсовцы: они просто боятся посмотреть правде в глаза. Если ты создаешь убийце условия для того, чтобы он мог
безнаказанно убивать, то разве ты сам не убийца? А потом, когда ты стал соучастником, он говорит тебе: «А чем ты лучше? Убивай и ты тоже!» Господь воздает каждому по делам его, и я знаю: то, что я видел под Кенигсбергом, как раз и было воздаянием немцам за их грехи.
— Но если господь воздает точно мера за меру, то тогда русские должны были жечь деревни, убивать мирных жителей... Насколько я знаю, они этого не делали, — заметил Корсаков.
— А я и не говорил, что точно, — возразил Розе. — Господь напоминает грешнику о том, что творящий зло может и сам стать жертвой, и тем призывает его к покаянию. Лишь оказавшись в шкуре жертвы, грешник способен покаяться. Но по своему бесконечному милосердию господь вовсе не стремится уничтожить грешника — он только хочет пробудить его душу от греховного сна.
Корсаков с сомнением покачал головой, вспоминая кровожадного бога Ветхого Завета, однако, по опыту зная всю бессмысленность споров, ничего не сказал. Странная логика набожных людей тоже была ему хорошо знакома, и потому он не стал спрашивать Розе, почему для вразумления великих грешников потребовалось уничтожать под Кенигсбергом ни в чем не повинных женщин и детей. Розе между тем продолжал:
— Сам не знаю, как тогда мы доплыли до Росто-ка, — должно быть, погода стояла нелетная, потому что обычно небо кишело вражескими самолетами. Поскольку родителей моих найти не удалось, меня отдали в детский приют в Эберсвальде, но, когда русские форсировали Одер, приют эвакуировали во Фленсбург, где нас и застал конец войны. Я помню, что родители меня любили, но не знаю, за что, потому что я с детства был уродцем. Сейчас-то я могу за себя постоять, а что я тогда мог? Только плакать.
Рос я еле-еле, потому что время было голодное, но и ту еду, что нам давали, у меня отнимали товарищи. Про побои я уже не говорю, меня только ленивый не бил. Однако нашлись добрые люди, которые подкармливали меня и не дали мне подохнуть, а давать сдачи я со временем сам научился. Я понял, что уступать нельзя никому: пусть противник сильней тебя, пускай он наверняка тебя побьет, но ты можешь сделать так, что в следующий раз он не захочет связываться с тобой, потому что ты каждый раз дерешься насмерть. Когда я чуть подрос, я сбежал из приюта. Страна была разрушена, работать было негде, и такие беспризорные ребята, как я, тянулись либо в деревню, либо к казармам американцев. Помню, попадались среди нас такие, которым казалось, будто на их долю войны не хватило, и они повсюду разыскивали оружие, чтобы ее продолжать, а поскольку никто другой не хотел иметь со мной дела, я примкнул к ним. Эти ребята ничего не боялись, и мне пришлось стать таким же, как они, потому что кроме них ко мне никто не относился по-человечески. Когда впервые в жизни найдешь друзей и знаешь, что других друзей у тебя уже никогда не будет, то легче умереть, чем их потерять. Мы разыскивали оружие, учились с ним обращаться, устраивали стрельбы на пустырях и в развалинах. Вот тогда-то я впервые почувствовал, что такое оружие, и полюбил его. С оружием я становился не уродливым карликом, а великаном, хозяином чужой судьбы... Мы начали грабить солдат союзных войск, причем от раза к разу становились все нахальнее. У нас завелись продукты, одежда, деньги, у моих друзей появились девчонки. Я наконец-то начал есть досыта и сразу стал расти — скоро я перерос всех ребят из моей шайки, но красивее я от этого не сделался, и девчонки по-прежнему шарахались от меня. Парни-то хорошо ко мне относились, можно сказать, даже любили, потому что знали: я не струшу, не предам, всем поделюсь с друзьями. Мне просто пришлось стать хорошим, потому что друзья значили для меня больше, чем весь остальной мир, и я должен был заставить их забыть о том, что я похож на чудовище из кино. Ребята, конечно, понимали, что я редкостный урод, но им это даже нравилось: они мной гордились, называли меня «наше страшилище» и пугали мной других беспризорников. Я к тому времени уже мог ударом кулака сбить с ног любого взрослого, так что боялись меня не зря. Но хоть я и был знаменитостью, все равно я во всех затеях старался держаться впереди всех, потому что мне казалось, будто в компании меня только терпят из милости. И все у нас шло удачно до тех пор, пока мы не задумали налет на один продовольственный склад американцев. Охрану мы сняли без особого труда, но, когда уже выносили ящики с продуктами, на Нас совершенно случайно наткнулся патруль военной полиции. Началась перестрелка, нам предложили сдаться, но ребята не хотели сдаваться... — Розе помолчал и закурил новую сигарету. Некоторое время он следил за поднимавшимися к потолку волокнами дыма, а потом севшим голосом произнес: — Все были убиты. Мы держались до конца, как настоящие солдаты, и все мои друзья погибли. Я видел смерть каждого из них. Американцы подтянули к складу тьму солдат, броневики, но ни одного из нас им не удалось взять живым. Пальба стояла такая, что весь город не спал, и в конце концов я остался один. Пока они собирались с духом, чтобы пойти на штурм, я нашел канализационный люк в полу и спустился в него, а сверху обрушил штабель каких-то коробок. Возможно, меня даже и не искали — они ведь не знали, сколько нас было. С тех пор я всю свою жизнь нигде не мог стать своим, — с тяжелым вздохом закончил свой рассказ Розе.
— А что ты делал потом? — спросил Корсаков.
— Потом я побыстрее двинул в Бремен и нанялся там матросом на торговое судно. Так что какое-то время поплавал я по морям, повидал свет... По правде-то говоря, я мало что видел, кроме тросов, швабры, лебедки и таскания разных тяжестей, так что матросская жизнь мне быстро надоела. Мне уже невмоготу было без риска, без приключений, хотелось снова подержать в руках оружие. Когда у тебя в руках оружие, ты как бы отделяешься ото всех и всех заставляешь считаться с собой, независимо от того, любят тебя или нет, урод ты или не урод. А на кораблях никто не стеснялся показать мне, что я лишний в компании. Приключений никаких не было — если, к примеру, шторм, то перекатываешься на койке с боку на бок и ждешь, развалится твоя посудина или нет. Разве что попойки в портах, но и пить мне приходилось одному. Правда, как раз в портовом борделе я впервые узнал, что могу нравиться женщинам.
Розе усмехнулся и сам себя поправил:
— Не женщинам, конечно, а. шлюхам. По гроб жизни буду им благодарен — после моих погибших друзей мне только с ними было хорошо, и не важно, где находился бордель — в Гамбурге или в Монтевидео: шлюхи повсюду оказывались добрее, чем так называемые порядочные женщины. Но речь не о них: воспоминания о нашей тайной войне не давали мне покоя, и я стал отыскивать в газетах статьи о войнах и вооруженных конфликтах. Читая, я прикидывал, смогу ли я принять участие в данной войне. Когда я узнал из газет условия приема во французский Иностранный легион, я решил, что это мне подходит. Поскольку вербовочной комиссии я показался чересчур молодым, зачислять меня сперва не хотели, но я был сильным парнем и уже тогда неплохо владел стрелковым оружием, людей же в Индокитае не хватало, и меня решили взять. Председатель комиссии сказал: «Косоглазые передохнут со страху, едва его увидят». На самом деле чуть не подох я, потому что подцепил желтуху, и меня эвакуировали в Европу. Но за пару месяцев, которые я успел отвоевать, начальство обратило на меня внимание, так что я остался в легионе и после выздоровления попал в Алжир. Там я навоевался досыта, — кстати, тамошние горы чем-то похожи на здешние. А может, мне это только кажется, потому что и там, и здесь пришлось иметь дело с мусульманами. Именно в Алжире во мне поколебалась вера в то, что я правильно живу: там я увидел, как душили газами укрывшихся в пещерах женщин и детей. Но то были лишь первые проблески истины — я еще не мыслил себе жизни без войны, и потому, едва стало ясно, что французы не удержат Алжир, я, как и многие мои товарищи, дезертировал из Иностранного легиона и отправился в Конго. Там для наемников наступили золотые денечки. К середине шестидесятых в Конго с нашей помощью стало малость потише, но не успели мы пропить в Европе заработанные денежки, как началась заваруха в Биафре. Там черномазые едва не освежевали меня, как свинью, но я все же выжил, а когда встал на ноги, появилась работа в португальских колониях, потом в Экваториальной Гвинее и снова в Конго — в Катанге, которую переименовали в провинцию Шаба...