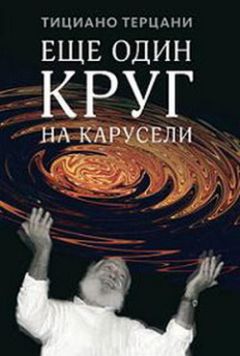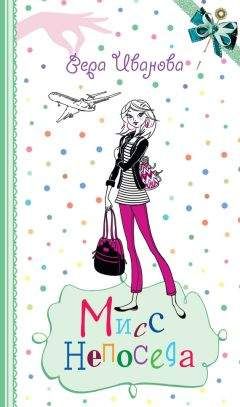Тициано Терцани - Еще один круг на карусели
Я промолчал, а вот кардиохирург очень заинтересовался. От каких же именно болезней можно излечиться в пирамиде?
— Мой шурин, например, уже был записан в очередь на шунтирование, — сказал директор, — но он захотел испытать пирамиду. Ему сразу же стало лучше, и теперь он отказался от операции.
На какое-то мгновение показалось, что все это какой-то спектакль: кардиохирург посещает пирамиду и тут — какое совпадение — ему тут же рассказывают о чудесном исцелении больного-сердечника.
— Где же сейчас этот шурин? — спросил я с некоторым налетом былой журналистской бойкости.
Шурин жил километрах в двух от школы. Когда мы явились к нему (можно было подумать, что спектакль продолжается, но нет, все произошло случайно!) он читал, лежа на кушетке внутри пирамиды, стоящей у дверей дома. Одна стена была подъемной, чтобы проникнуть в пирамиду.
Шурину было лет шестьдесят пять, и он нисколько не походил на больного. Он рассказал свою историю кардиохирургу, ответил на его вопросы, а в конце заявил, что теперь, чудом излечившись под воздействием пирамиды, он ни за что не согласится на операцию. Еще он недавно прочитал об американском исследовании, показавшем, что после операции на сердце люди теряют способность любить и ощущать любовь других. Иными словами, шунтирование подавляет часть мозга, которая ответственна за эти чувства, а он предпочитает умереть, не разучившись любить.
Мог ли я ему возразить? Особенно после того, как шурин, выглянув из пирамиды, где теперь он дневал и ночевал, процитировал чью-то фразу, которая подходила для всех: «Мерило достоинства человека — не то, как он умирает, а то, как он жил».
На обратном пути Сундараджан с кардиохирургом, не умолкая, говорили о пирамиде. Оба были в восторге. Сундараджан со своим алым кружочком на лбу и тремя полосками сандаловой пудры в изумлении таращил глаза, и без того огромные. Он был убежден в сверхъестественной силе пирамиды. Ему уже была хорошо известна сила мантр, он привел в качестве примера магическую формулу, которую следует повторять, чтобы немного продлить жизнь умирающему, и еще ту, которую надо напевать во время свадебного ритуала, чтобы первенец у новобрачных был мальчиком. Кардиохирург с ним соглашался, но с небольшой поправкой — он полагал, что эффективность мантр очень зависит от того, кто их использует. «Это как с антибиотиками, — сказал он, — их нельзя давать всем подряд и помогают они только в определенных случаях».
Я слушал их и смотрел в окошко «Амбассадора», за которым проносилась мимо все та же ужасающая Индия. «Как же так получается, — Думал я, — что при всем могуществе мантр (и пирамид!) Индия — страна с одним из самых высоких в мире показателей детской смертности, с угрожающим процентом заболеваемости туберкулезом, страна, в которой ежегодно, несмотря на „пуджи“, способные вызвать дождь или прекратить его, тысячи людей умирают из-за последствий засухи или наводнений?… Может, именно из-за этих несчастий возникает необходимость в мантрах, „пуджах“ и во всей этой поэзии. Или все наоборот и все так ужасно именно из-за того, что все только и делают, что повторяют мантры и молятся?»
В директорском музее-магазине мы купили себе по пирамидке. Моя была из голубой пластмассы; пару раз я попробовал медитировать с пирамидкой на голове, после чего она отправилась под койку, к лекарствам из Коттакала.
Я стал отлынивать от групповой медитации. Вместо этого шел куда-нибудь на природу, иногда даже писал пейзажи дешевыми акварельными красками, случайно купленными в магазине канцтоваров в Коимбаторе. Когда-то в детстве я довольно много рисовал. Особенных успехов не добился, но мне нравилось и нравится до сих пор это занятие — пытаться передать на бумаге даже не то, что я вижу, сколько то, что чувствую.
Однажды на закате я сидел на «своем» холме и рисовал стога сена, разбросанные в долине внизу. Я думал, что я один, но тут ко мне подошла женщина с нашего курса. Я давно заприметил ее: она всегда держалась в стороне, одинокая, очень худая, изящная, видно было, что ее что-то мучает.
— Ничего, что я смотрю?
Затем мы вместе стали разматывать интереснейший клубок совпадений и общих интересов. Она слышала, что я ездил в Коттакал, и догадалась, что у меня проблемы со здоровьем. Были они и у нее. Десять лет назад ей поставили неутешительный диагноз. Речь шла о неизлечимой болезни. Западная медицина убила бы ее еще скорее, чем сам недуг. От кого-то она услышала о маленьком натуропатическом центре, который держала одна супружеская пара в штате Андхра-Прадеш. Из последних сил она поехала туда. Никогда в жизни она не видела более убогого места, но там ее выходили, и она осталась жить. Она порвала с Дели, со своей семьей — состоятельной, это сразу бросалось в глаза — и поселилась в том центре…
— Самая важная фаза лечения, — объяснила она мне, — это анализ состояния больного. Иногда приходится беседовать часами, чтобы определить, как применить единственное настоящее естественное лечебное средство: голодание.
— Голодание лечит, — говорила она, — но необходимо точно определить, сколько оно должно длиться, сколько воды нужно пить и с какими добавками; например, с медом и лимоном. Никаких фруктовых соков. Голодание заставляет тело сжигать дотла все ненужное, разросшееся, лишнее, вредное, все просроченные запасы, а все полезное остается нетронутым. Голодание не отнимает силы у тела, наоборот, оно помогает экономить энергию, которая иначе будет потрачена на переваривание пищи. В период голодания нужно быть предельно сосредоточенным. Нельзя ни читать, ни писать. Можно только медитировать.
В сущности, объяснила мне она, речь о том, чтобы заботиться не только о теле пациента, но и о его психическом состоянии и особенно его духовном уровне. «В конце концов речь идет о вере в Бога. Все болезни излечимы, но не все пациенты», — сказала она.
Я рассказал ей о Коттакале и спросил, что бы она сделала на моем месте с лекарствами, что у меня под кроватью.
— Принимай их, но только если убежден, что они тебя излечат.
В общем, я опять вернулся на исходные позиции. А потом, если лекарство не поможет или даже повредит, виновата будет не коровья моча, а я сам от неверия! Это мы уже слышали.
Она пригласила меня навестить ее в деревне в Андхра-Прадеш. А если для меня это слишком далеко, я могу получить представление о натуропатии, посетив знаменитый центр неподалеку от Бангалора.
И я взял адрес.
Постепенно я осознавал, что мир ашрама, который казался столь уникальным, таким необычным, не так уж, в сущности, отличается от мира внешнего. Люди, вначале искавшие здесь одиночества и поглощенные занятиями, со временем стали тянуться друг к другу, сбиваться в группки, общаться. Один из членов «бригады пенсионеров», узнав о нашей поездке к пирамиде, обиделся, что его не пригласили. Припомнив, что я молчал целую неделю, он вознамерился после окончания курса непременно отвезти меня к своему Муни Бабе — старому «садху», молчавшему уже двадцать лет.
Ашрам был моделью общества, и вскоре я разглядел в нем те же процессы, что и в обществе за его стенами. Женщины сдержанно, с любезными улыбками, но упорно отстаивали право прислуживать приезжающим в гости «свами». Многие «шиша» соревновались, кто задаст на «сатсанге» вопрос помудренее.
Тот, кто думает, что, переступив порог ашрама, он ушел от ловушек жизни, ошибается. Конечно, здесь тебя не достанут налоги, телефонные счета, приглашения на ужин от человека, которого ты избегаешь, но и тут неуловимо присутствуют обязательства, возникает напряженность между людьми. Здесь, к примеру, ты считаешь себя обязанным присутствовать на «пудже» или борешься за место поближе к ногам Свами. Ашрам тоже мог стать своего рода ловушкой. Это было убежище, которое предлагало защиту и гарантии, но при этом, как это всегда бывает с защитой и гарантиями, ограничивало свободу.
Здесь я многому научился, здесь ко мне пришли новые мысли. Я чувствовал себя частью гурукулама, но провести остаток жизни в ашраме, учить священные тексты, передавать их другим — это было не для меня. Я был многим обязан Свами, но явно не был рожден для того, чтобы стать его последователем.
Как-то, принимая утренний душ (система была простая: нужно было сесть на корточки перед краном в стене и плескать себе на голову пригоршни холодной воды), я почувствовал, что в меня уже въелся какой-то монастырский запах — целомудрия, безвкусной еды, безупречной жизни. И меня это обеспокоило.
Вскоре, в припадке еретической злобы я, не задумываясь, истребил целую вереницу муравьев, которые совершили налет на мою драгоценную коробку с финиками. За завтраком вместо того, чтобы съесть три больших клецки из манной крупы, которые дежурный «брахмачарья» вывалил мне в миску, я тайком подложил их своему соседу, отлучившемуся на секунду за стаканом молока. Это был один из «пенсионеров», тихий, вежливый, благовоспитанный. Вернувшись, он пришел в недоумение. Не понимая, каким чудом его порция удвоилась, он оглядывался по сторонам, смотрел на меня, а я, гордый своей выходкой, делал отрешенный вид. В конце концов он махнул рукой и все съел.