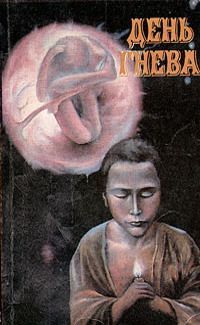Вера Галактионова - 5/4 накануне тишины
— Не торопись! — настаивал голос Патрикеича. — Не знаешь ты многого. А тебе сейчас-то это и надо, узнать…. Может, и не захочешь ты никакого действия совершать. Не захочешь!
586
— …Наберись терпенья, сынок, — сипел старик, не собираясь отставать ни за что. — Без этого знанья тебе никак нельзя на тот свет уходить. Нам с тобой помирать вслепую не годится. Вот тут посуше. Дай, остановлюсь я. Отдышусь маленько…
Цахилганов замешкался, прислушался невольно,
— чувствуя — что — зря — зря — напрасно —
и движение души его замедлилось, застопорилось —
замерло.
— Вот, тут, слышь, Константиныч, — задыхался старик, припадая в изнеможении к угольной стене. — В шахты до революции тут лошадей в большой клети опускали, вагонетки с углем тянуть. Весь год они, лошадки, под землёй работают, значит. И света вольного не видят. И только в одну ночь,
— к — чему — это — он — завёл — старый — экавэдэшник —
в ночь перед светлой Пасхой поднимали их наверх. На волю. На траву. В степь тёмную, спящую отпускали. Под луной, по росе, они сначала паслись… Стоят они, значит, в степи по весне, шахтные лошадки подслеповатые, с болячками, с холками потёртыми, под звёздным небом, на воздухе вольном, и солнышка ждут…
При чём тут лошади, не понимал Цахилганов, раздражаясь.
— …Утром-то или днём их поднять — нельзя, потому как от света отвыкли: ослепнут сразу, после долгого-то подземелья. А так — солнышко медленно восходит,
— не — томи — же — не — тяни — ты — трёхглазый —
медленно, медленно зорька степная над полынком занимается. И так, с рассветом, потихоньку, из ночи в день возвращаются они, работяги-бедолаги полудохлые. На ясный свет опять глядят… Им все пасхальные дни гулять давали на воле, каждый год! До революции самой. Чтоб и у скотинки божьей праздник был…
— Ну, и что?
— А при Троцком тех, первых ссыльных людей, их ведь под землю спускали — на пожизненный срок, без суда. На весь человечий век. В вагонетки христиан, значит, впрягали. Вместо дореволюционных лошадок. Видал узкоколейку-то?.. Лошадей, значит, при царизме поднимали всё же. А людей потом, при Троцком, нет; никогда. Никогда…
Света им вольного не полагалось, человечкам нашим, в белом стане застигнутым.
587
Зачем Дула его остановил?!
— …Здесь жили они, под землёй, — продолжал старик. — Недолго жили. Под небесами каменными, во тьме. Вот, отбивали этот уголёк, грузили, вагонетки волокли. Тут их и хоронили, под угольком, в сырости. Много людишек осталось в недрах-то наших… Ну, он крепкой породы был, Иван Павлыч Яр! Исполин… Выдюжил. И во тьме не пропал. До самых послаблений в шахте продержался…Один из тех шахтёров — он! — из подземелья вышел, значит. С фуфайкой на голове в степи долго среди людей сидел, пока к свету утреннему привык… Да…
И за то, что выдюжил, уважают его крепко все в Карагане. И помнят. А я думаю… Он, может, потом, уж при аварии, и в пламя-то от самой клети ушёл — к своим? К тем вернулся, которые света не увидали и здесь полегли все… К ним,
— к — ним — из — верности — своей — породе — старинной — можно — сказать —
только уж у него не спросишь, и никто этого в точности понять не сумеет, почему он, в старых своих летах,
от клети спасительной назад,
в пламя повернул?!.
Но что-то ещё, иное, мучило Дулу Патрикеича.
— Я чего сказать-то хотел, — уже повторялся старик. — Теперь — можно. Нельзя тебе в незнании в смерть отправляться. Корить ещё потом будешь меня, старика, на том свете… Это. Дочка твоя. Степанида. Не родная тебе. Внучка она Иван Павлычу… Он. Сам Иван Павлыч Яр! Имя ей дал… И крестить носил — сам. Да…
— Врёшь, холуйская морда!
588
Брешет. Лакей трёхглазый. Палач… Да что же это?!.
Значит, нет у Цахилганова никакой дочери? А есть только Боречка? Безвольный наркот с широким носом?
— Ууууу, не вру. Извиняюсь, конечно, за компанию. А только без точного знанья ни одно верное дело большое не свершается. Положено — так: в самом что ни на есть полном безобманном горьком понимании к нему приступать. Да. В наигорчайшем… А иначе — невозможно это будет выполнить, калёно железо! Слышь, ты?! Не получится оно — если с обманом.
Ну вот. И всё.
— Теперь ругайся, — разрешил Дула. — Обижай старика. А то и убей. Чего долго думать? Мощь в тебе сейчас большая. Ты одной только мыслью можешь так припечатать, что и дух мой отлетит. Валяй. Ухайдокай… За верность мою, за честность. Так мне и надо. Только уж Аграфене Астафьевне моей доложи. Зря, мол, он всю судьбу свою изжил, старичок, заветного-то часа с радикулитом дожидаючись. Да. Зря. Не пригодился для великого дела твой Патрикеич. Помер без всякого геройства. И вин своих не искупил. Так и скажи.
589
Цахилганов, не слушая причитаний, с трудом соображал, что прожил он жизнь
в дураках.
Значит… Люба, безупречная его Люба совершила когда-то, много лет назад, этот подлог —
от — самых — тихих — женщин — мы — получаем — самые — сокрушительные — удары — отец — предупреждал — упреждал — ждал — он — от — неё — чего-то — подобного…
— Я так понимаю, сынок, — продолжал волноваться Патрикеич, — что спёкся ты. И уж ни на какую смерть свою окончательную не пойдёшь… Ну, решай: в ту сторону подашься? Назад?
— А ты думал, вперёд?
…Судьба обобрала, объегорила, обошла Цахилганова по всем направленьям, и теперь, за всё — за это, ждёт она от него жертвенного подвига во имя других людей —
во имя, смех сказать: будущих поколений!
Боречка… Шарашится где-то по свету случайный сын его Боречка,
присвоенный Барыбиным,
и лежит в беспамятстве в реанимации присвоенная Барыбиным Любовь,
что с этим-то делать? Кто же на всём просторном свете — его, только его?.. А нет таковых.
— Ну!.. Сбил ты меня, старик. Сбил влёт…
В прах стёр, в пыль.
— Так вот она, нора-то! — торжествующе вскричал Патрикеич. — В неё теперь надо! Как же это я сразу не углядел? Могли ведь и мимо по штреку сквозонуть. А она… Вот!!!
590
Дула всё тараторил в стариковской своей, преувеличенной радости:
— Лаз это! Он самый. Ты здесь ещё, Константиныч?.. Теперь, ползком если пробираться, тут рукой подать. Лаборатория-то рядом. Туда тебе!..
— Почему — мне — туда? — холодно осведомился Цахилганов, различая игру световых полос в чернильной густой тьме.
Странно: именно для Боречки он ничего и не сделал. Ровным счётом ничего.
Дула Патрикеич растерялся:
— Так ведь, лаборатория…
— Ну и что? Сопрягать прошлое с будущим — на это сила нужна, старик. А у меня её нет. Пропала сила. Так-то, правдолюб.
…Где же носит сейчас по земле это сорное, нелюбимое — родное — родное? — дитятко, Марьянино и его?
— «Ослябя»! — без надежды напоминал Цахилганову Патрикеич. — Ты подумай, труда-то в программе сколько! Теперь на тебе одном всё сошлось, а ты…
— Сдурел? Какой ещё «Ослябя»? — раздражился Цахилганов. — При чём тут «Ослябя»? Я в холодильнике вообще-то. Мне выбираться из него для других дел придётся. Которые без телесной составляющей не решишь… Всё. С меня довольно.
591Но события в километре от лаза, под лощиной, развивались своим чередом. Постанывающие парни, полупридавленные землёй, принялись тереть глаза от ярко бьющего света. Лучи карманных фонарей метались по замкнутому пространству, выхватывая угольные выступы, вспыхивающие на сколах.
Пять человек в серебристой форме экологов, с респираторами на поясах, спустившись по длинной капроновой лестнице, изучали обстановку. И Циклоп взвыл дурным предсмертным голосом в своей тесной земляной нише, крепче прижимая покойницу к себе,
обмотанную, словно мумия.
— Ты, падла, ещё раз мне в ухо гаркнешь… — вяло бормотал Чурбан, приподнимаясь на локте в подземельном осыпающемся логове. — Сказал же, голова трещит…Схлопочешь, короче.
— Люди, — озадаченно проговорил спустившийся первым. — Лежат вповалку.
— Откуда им быть? — недоверчиво спросил кто-то наверху.
— Кажется, бичи провалились…
— И что теперь делать с ними?.. Травмированные?
— Не разберёшь… Надо бы доложить!
Над ямой некоторое время переговаривались по-английски.
— Да вон, сюда подъезжает начальство, само… Большое там пространство? Внизу?
— Тесное…
— Какая разница! Придётся всех поднять. Поднять и изолировать. Давай их, по одному, сюда. Быстро…
Четверо там, на поверхности, приготовились принимать людей. Остальные толпились по кругу, возле дыры. Пытаясь подойти ближе, они с опаской пробовали, удержит ли их всех