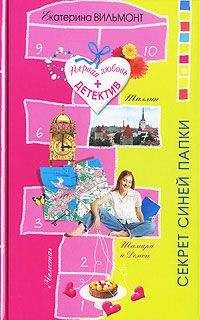Ксения Велембовская - Дама с биографией
Устав брезгливо морщиться, Люся вышла на две остановки раньше и пошла пешком: все быстрее, чем на этой проклятой колымаге. Между прочим, уже опасно накренившейся набок.
Автобус она, конечно, не перегнала, а в подъезд вошла большим сугробом, и, как ни трясла возле лифта сырую от снега шубу, та, хоть плачь, никак не хотела возвращаться в прежнее состояние роскошной норки темно-медового цвета. Драная кошка, и все тут! Из попытки разгладить ладонью клокастый, неузнаваемо тяжелый мокрый мех ни черта не вышло, и от отчаяния Люся даже всхлипнула: ведь такой красивой и дорогой шубы у нее не будет уже никогда! Откуда? Только Лялечка, да и то во времена оны, могла сделать ей такой царский подарок. Причем сделать с легкостью, словно ей это ничего не стоило, тем самым освобождая от необходимости рассыпаться в бесконечных благодарностях.
— На, мать, забери ее, ради бога! Меня эта шуба страшно увеличивает. Представляешь, позарилась на пятидесятипроцентную скидку и купила на размер больше… Ладно, мать, забей! Подумаешь, три тысячи евро. Все равно я на ней уже поставила крест, когда эти сволочи в «Аэрофлоте» потеряли мой багаж.
На самом деле и это великолепное, невесомое норковое манто, небрежным жестом брошенное прямо в руки, и все остальное Ляля всегда дарила от души, просто манера у нее была такая — жутко независимая.
И вот везучая шубка, не потерявшаяся и не украденная, по счастливой случайности оставленная прошлой весной в Ростокине и избежавшая пламени пожара, теперь из-за волшебного снегопада превратилась бог знает во что. Так обидно! Главное, куда было спешить? В этот вонючий мусоропроводный дом, населенный нынче не пойми кем? Ни одной более или менее приличной или хотя бы знакомой физиономии здесь уже не встретишь, зато грязи и всякой гадости — полным-полно!
«Ничего у меня теперь уже не будет! Ни другой шубы, ни другого дома, ни другой квартиры!» — продолжала по-мазохистки изводить себя Люся, открывая дверь в мрачную тишину, в четыре стены, в одиночество. Обычно утешающий аргумент — у многих и такого жилья нет, тысячи людей сидят друг у друга на голове — сегодня не утешил: эти тысячи не привыкли, как она, к простору и комфорту, им легче смириться со своим убогим существованием.
Изматывающее чувство жалости к себе, никому, в сущности, после смерти матери не нужной, перешло в неудержимые слезы на высокой Нюшиной кровати, уже давно не пугавшей своим покойницким прошлым. Чего теперь бояться? Ничего страшнее пережитого прошлой осенью быть уже не может. Когда-то она осуждала Нюшу, способную безмятежно похрапывать на постели самоубийцы. Как можно? Какая душевная тупость! А когда поумнела, поняла: если человек пережил войну, голод, потерю близких и, совершенно обездоленный, остался один как перст в огромном и жестоком мире, то о какой его душевной тонкости или тупости можно рассуждать? Тут бы как-нибудь выжить, приспособиться, отложить хоть копеечку на черный день. К слову сказать, грядущий черный день страшил не одну только Нюшу, а целое поколение простых людей, перенесших за свой век столько страданий, что поверить в безоблачное завтра они уже не могли. Да и следующее поколение, кроме тех, кто нахапал на три жизни вперед, тоже не особенно рассчитывает на безоблачность.
Кровать, кстати, оказалась очень даже удобной. Нюша вообще обустраивала свой быт не по принципу красоты, а исходя исключительно из соображений удобства, и в этом была своя сермяжная правда. Вот где бы, например, сейчас сушилась мокрая насквозь шуба, если бы не веревка, протянутая на кухне под потолком? Сколько раз Люся покушалась на эту неэстетичную веревку, а веревочка-то, видишь, как пригодилась.
Время от времени она покушалась то на одно, то на другое, но горячее стремление к переменам, к эстетике быта неизменно наталкивалось на плутоватый материнский вопрос: «А деньги-то у тебе на ентот шкап (диван, стол, неважно) есть или как?» Денег, естественно, не было.
Свободных денег — так, чтобы поменять мебель, сантехнику, сделать основательный ремонт, — не было никогда. Денежки чуть-чуть водились при Марке, но, увы, недолго музыка играла, а после, лет на двадцать — опять нищета. Безбедная пора началась в Счастливом, но сопровождалось это благоденствие таким количеством забот и хлопот, что до ростокинской квартиры все никак не доходили руки. Даже как следует прибраться, и то было некогда. Так и оставался Нюшин дом брошенным, запущенным, оплетенным по углам серой паутиной с дохлыми мухами — до того дня, когда наутро после ее смерти Люся вернулась в Ростокино.
Бросив чемоданы с наспех похватанными на даче вещами, она огляделась и с остервенением взялась за уборку. Честно сказать, руководило ею не столько отвращение к грязи и беспорядку, сколько желание занять себя, страх перед возможной депрессией. Вроде той, после измены Марка, из которой она когда-то еле-еле выбралась. Не понятно лишь, откуда у нее силы взялись, чтобы драить квартиру после бессонной ночи?
Ладно бы только бессонной. Врагу не пожелаешь такой ночки: слезы в четыре ручья, Лялькина непрекращавшаяся истерика с яростными угрозами в адрес Ростислава, стремительно-опасное — в темноте, под проливным дождем — возвращение на машине с обезумевшей Лялькой за рулем из больницы на дачу, судорожные сборы и спешный отъезд в город, прочь от ненавистных Кашириных: «Попадутся под руку — убью!»
В Ростокино они приехали, когда уже светало. Ляля с каменным лицом выставила из багажника вещи, прошептала, не поднимая глаз: «Прости, мне надо побыть одной. Я позвоню», — хлопнула дверцей и умчалась на Чистопрудный на все той же сумасшедшей скорости. Позвонила девочка часов в одиннадцать утра — спокойная, деловая, полностью готовая к бабушкиным похоронам. Ей бы не артисткой быть, а премьер-министром!
— Мам, сообщаю тебе, что я уже обо всем договорилась. Бабушкины похороны будут тридцатого, в час дня. По высшему разряду, на очень приличном кладбище. Записывай…
— Ой, Лялечка, мы же с тобой впопыхах забыли бабушкины вещи! — вдруг вспомнила Люся. — Если тебе тяжело видеть каширинские рожи, — повторила она вчерашнее выражение, не единожды произнесенное дочерью и со слезами, и в ярости, — давай я сегодня съезжу своим ходом и заберу?
— Нет! Ни за что! Я не разрешаю! — по-вчерашнему истерично закричала Ляля, однако быстро взяла себя в руки. — Неважно, мам. Бабушке ее вещи уже не нужны. Заберем как-нибудь после. Я свои шмотки тоже не все забрала… Ты, мам, не волнуйся, пожалуйста, и не плачь, — неожиданно сказала она с такой незнакомой теплой ноткой, что Люся тут же и разрыдалась.
Поехать на дачу за вещами как-нибудь после им так и не пришлось. Сначала были Нюшины похороны, потом девятый день, потом Ляля улетела на съемки в Одессу. Вернулась она десятого, а одиннадцатого среди ночи Люсю разбудил звонок Кузьмича: «Люсиночка, ваша дача горит!»