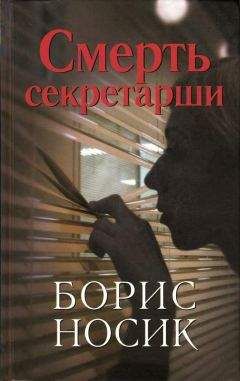Борис Носик - Пионерская Лолита (повести и рассказы)
— У нас женятся на богатых, — сказала она обреченно.
Взгляд ее говорил, что, в сущности, я и сам бы мог на ней жениться, купить для нее раскладушку и наделать ей кучу детишек с удивительными берберскими глазами, похожими на глаза моих младших сестер. Нет, это было невозможно — я был дважды женат, я был бездомный (куда и свою-то поставишь раскладушку?) и, хотя не преуспел в многодетстве, числился отцом дочки и сына от двух жен, конечно, плохим отцом, бедным и бродячим отцом, а все же отцом…
— Да, да, мужа… — бормотал я, перебирая в уме немногие знакомые мне вне России особи мужского пола. — За француза… За американца…
Я был придирчив — она очень мне нравилась, ей цены не было, этой прелестной невесте из Уарзазата. Впрочем, напрасно я придирался к потенциальным претендентам на ее руку — я просто не находил ни единого кандидата среди моих знакомых по обе стороны Атлантики: один был женат, другой — гомик, третий — импотент и женоненавистник, четвертый — бездомный эмигрант, сбежавший от жены и детей, оставленных на родине…
— Конечно, надо только подумать, — бормотал я, глядя на нее с изумленьем, нежностью и сожалением. Я даже не могу сказать, о чем я сожалел. О, том, что я потратил много времени зря — на глупости, на путешествия, книги? О том, что женщины, на которых я женился, не замечали, куда я смотрю? Или не придавали этому значения. О том, что уже не будет больше маленьких, сопливых, черноглазых детишек? Я знал, что нельзя допускать таких настроений, — они уже привели меня к браку, дважды. Но тогда было не то. А теперь было то, то самое… Но горы бежали мимо, и совместного пути оставалось не больше двух часов…
— Вот, — сказала она, — вот наша деревня. Наш дом — вон там, сзади…
Это была горная деревня с каменными сараями, похожими на маленькие крепости. Очень бедная и суровая деревня. В холодную пору зимние деревни особенно грустны и суровы. Мы остановились на три-четыре минуты, и я увидел, что здешние люди продают туристам лишь размытые водой камни, которые тут называют «роза пустыни», — продают за гроши… Больше им продать, вероятно, нечего.
В Марракеше на станции ее встречал брат. Мы уже успели обменяться телефонами и адресами и молчали, подъезжая.
— Вы мне столько рассказывали… — сказала она на подъезде к станции.
— Если б можно было бы зачать от голоса… — сказал я, не слишком надеясь, что она поймет, о чем речь. Но похоже, что она поняла. И взглянула на меня с неожиданной тоской и нежностью.
Она звонила мне в Париж раза два или три. Я растерянно говорил, что да, помню, все помню, конечно, все-все… Но…
— Помнишь — касба? — спрашивала она после разорительного молчания по телефону.
— Конечно… — говорил я нежно. — Коне-ечно…
Потом она перестала звонить. Может, она все-таки вышла там за кого-нибудь замуж. Надеюсь, что с ней не случилось ничего плохого. Надеюсь, что ей не хуже, чем нам всем. Ей, которая лучше всех нас.
Уарзазат — Париж, 1989–1996В Истанбуле, в Константинополе…
Молодой дежурный был сыном хозяина гостиницы, албанца из Косова. Он довольно старательно изображал отчаянного уголовника, но, может, он и был уголовник. Мы сторговались с ним на семистах пятидесяти тысячах за ночь, что в переводе на русский язык означало десять долларов. Комнатка оказалась узенькой, крошечной, койка занимала ее почти полностью, а умывальник (он же писсуар, на мой худой конец) был в коридоре. Я опустился на койку и почти сразу же задремал — ночь в автобусе была мучительной и бессонной, а путешествие от средиземноморского Бодрума до Стамбула растянулось больше чем на полсуток…
Проснулся я от журчанья голоса. Голосок был девичий, и говор показался мне русским. Я сонно усмехнулся: всякий нефранцузский говор казался мне в этом путешествии русским. Это была болезнь, от которой, мне казалось, я уже излечился за пятнадцать лет, но вот, видишь, снова… В нынешнем путешествии особенно знакомой казалась мне издали турецкая речь. Может, она переносила меня в Бухару, в Ташкент, в Фирюзу. Наверно, сумятицу эту вносило еще и ожидание. Я слышал, что русские заполонили уже анатолийский берег и Трапезунд, однако в толпах туристов, бродящих по древнегреческим руинам, мне попадались все, кроме русских. Может, русские не за тем ехали в Турцию…
Больше всего попадалось отчего-то канадцев и австралийцев. Наверно, пришел их черед обогащаться знанием. А может, просто какая-нибудь австралка вернулась домой из Турции и рассказала соседкам, что там все очень дешево в переводе на австралийские драхмы, а турки, о, турки — они очень милы… Они и впрямь были вполне симпатичные, эти турки. А уж по-иностранному-то понимали куда лучше французов.
…Нет, на сей раз девичий говор был определенно русским. Даже, я бы сказал, южнорусским. Неужели опять миражи, как в первые мои парижские годы?
Я поднялся и приоткрыл дверь. Теперь голос звучал вполне отчетливо. И впрямь русский говор, да еще с южнорусской интонацией. Девушка говорила громко, с нажимом — кому-то жаловалась, кого-то убеждала. Объясняла, что уже три дня за гостиницу не плочено, да и гостиница плохая, на боковой улице, черт-те где, вчера клиент два часа искал… Иногда она вдруг понижала голос, что-то там бормотала, почти шептала.
Я закрыл дверь. Подумал, что это все очень скучно: русские наташи штурмуют панель. Я уже видел их на Кипре… Вот еще вспомнить бы, отчего так интересно было когда-то читать купринскую «Яму». По малолетству? А отчего так скучно сейчас? Из-за возраста? Не знаю. Интерес к сексу ведь, увы, не слабеет. Пропадает лишь интерес к производственной теме. Я стал припоминать, отдавался ли нам кто-нибудь за деньги там, в России? Пожалуй, что нет. Не то чтоб неизбывная любовь царила в том мире промискуитета, откуда мы сбежали из нетерпенья, нет. Отдавались нам из любопытства, из чистой симпатии, даже из уважения, из чувства долга и просто согласно ритуалу (вот уже и чай пили, и об искусстве беседовали, теперь что ж дальше…). Из корысти тоже, конечно, отдавались, но не без примеси чувств. И никогда, чтобы так вот — деньги на бочку. С последней прямотой. Нет, нет, декорум был всегда соблюден. Дома помогали стены (забитые книгами), родной язык (неплохо подвешенный). Да и возраст был иной, напор. Тут главное — напор. Ностальгия первых эмигрантских сочинений (а кто ж не писал в те годы — и врачи, и социологи, и кремлеведы, и кремленологи, и стукачи) была не только тоской по березкам и молодости, но и по утраченному с потерей статуса мужскому достоинству… Помню вот дома, вот там… Наименее интересное вспоминалось как браки — первый брак, второй, третий, — но тут кто ж тебе виноват? Об этом, впрочем, вообще лучше не вспоминать…