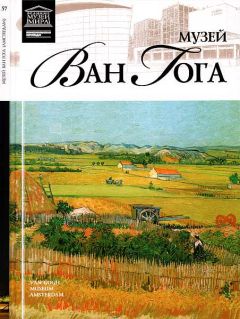Фрэнк Норрис - Спрут
- Наконец-то!
- Поехали, поехали!
Кто-нибудь обязательно попадался на эту удочку. Какой-нибудь беспокойный старик или тугая на ухо старушка подбирали вожжи и пускали лошадь, пока их не останавливал первый же встречный распорядитель. Подобные проделки вызывали хохот ближайших соседей. Над тем, кто поверил обманщику, дружно смеялись, а сам шутник еще и издевался громко:
- Эй-эй, вертай назад!
- Экий простофиля!
- Ты куда расскакался, дед?!
- Хочешь один всех зайцев затравить?
Несколько таких весельчаков придумали себе хорошую забаву:
- А, знаете, чего мы ждем? Смехунчика.
- А это еще что такое?
- Как же можно травить зайцев без смехунчика?
- А что это такое - ваш смехунчик?
- Слыхал? Она не знает, что такое смехунчик! Без него начинать никак нельзя. Вон Пит поехал за ним.
- Да что ты, право, дурочку из меня строишь! Какой там еще смехунчик?
- А чего же мы тогда ждем?
- Ой, смотрите, смотрите! - закричали разом несколько женщин, сидевших в крытой повозке.- Смотрите, там уже трогаются.
И правда, было похоже на то; во всяком случае, на противоположном конце полумесяца все пришло и движение. В воздух поднялось облако ныли.
- Они двинулись! Что же мы-то стоим?
- Нет, остановились. Ложная тревога.
- Вовсе нет! Мы-то чего не едем?
Но как только две или три повозки тронулись с места, стоявший неподалеку распорядитель сердито крикнул:
- Назад, назад!
- Так ведь там уже поехали?
- Назад! Слышали?
- А где же смехунчик?
- Назад! Кому сказано?
- Где смехунчик, спрашиваю.
- Слушайте, ведь мы же так все пропустим! Они уже поехали!
Перед строем галопом проскакал распорядитель этого фланга.
- А вы что же? Почему стоите? - закричал он.
Раздался общий вздох облегчения. Потом все дружно загалдели:
- Ну, кажется, едем.
- Соблюдайте порядок! - орал распорядитель.- Не вырывайтесь из строя!
Распорядители носились на взмыленных лошадях иа конца в конец, выравнивая линию облавщиков, крича и размахивая руками:
- Осади! Слышь, осади! Сомкнуть ряды! Вы что, хотите, чтобы зайцы между вами проскакивали?
Несмолкаемый, беспорядочный гул стоял в воздухе: скрип повозок, громыханье железных ободьев по cyxoц, комковатой земле, хруст стерни под копытами лошн дей, собачий лай, людской говор и смех.
Все это формирование из лошадей, повозок, фурго нов, двуколок, собак, пеших мужчин и подростков с дубинками в руках медленно продвигалось по полям, поднимая тучи белой пыли, стелившейся над окрестностями как пелена дыма. Безудержное веселье царило вокруг. Все были в прекрасном настроении, люди перекликались, хохотали, дурачились, подшучивали друг над другом. Гарнетт и Геттингс, оба верхом, очутились рядом. Они долго и серьезно обсуждали ожидавшееся нокышеиие цен на пшеницу, не принимая никакого участия в общем веселье, словно облава их не касалась. Дэбни, тоже верхом, ехал следом за ними, прислушиваясь к разговору, но не осмеливаясь вставить слово.
Миссис Деррик и Хилма сидели в бричке, правил которой Вакка. Миссис Деррик, выведенная из привычного равновесия большим стечением народа и со страхом ожидавшая начала избиения зайцев, сидела, съежившись, и в ее странно молодых глазах можно было прочесть беспокойство и ожидание беды. Хилма, очень возбужденная, высовывалась из брички, стараясь ничего не пропустить: она высматривала зайцев, забрасывала вопросами Энникстера, ехавшего рядом.
Перемены, происходившие в Хилме после того незабываемого вечера в новом амбаре, достигли теперь высшей точки; девушка стала женщиной и готовилась стать матерью. У нее развилось чувство собственного достоинства - новая черта характера. Застенчивость и робость, свойственные девушке, в которой просыпается женщина, исчезли. Смятение чувств, треножных и сложных, в которых молодая жена подчас спма не умеет разобраться, само собой улеглось. Предвкушение материнства вернуло ей былые ясность и простодушие, только теперь это была не наивность, и смирение человека, овладевшего величайшей мудростью, нравственное величие. Она смело смотрела ил мир. Взбаламученные мысли наконец-то улеглись, подобно тому, как, покружив, возвращаются на прежние места вспугнутые птицы; старые обиды перекипели, и она, умиротворенная и невозмутимая, вступала в свои священные права, словно королева в подвластное ей королевство вечного спокойствия.
Сознание, что на ее голову возложена корона, сделало Хилму по-особенному одухотворенной, и это было несказанно прекрасно, несказанно трогательно; нежность и благородство, исходившие от нее, распространялись на всех, кто соприкасался с ней. Хилму окружала невидимая глазу атмосфера любви. Любовь сияла в ее широко раскрытых карих глазах, любовь - туманное отражение венчавшей ее голову короны - играла мягким отблеском в ее пышных темных волосах. Любовь покоилась ожерельем на ее прекрасной шее, на покатых плечах; любовь, которую невозможно было выразить словами, была в дыхании, вылетавшем из ее приоткрытых уст. Флюиды исходили от ее белых сильных рук - от плеча до кончиков пальцев и розовых ноготков, пленяя и очаровывая.
В бархатистой хрипотце ее голоса любовь звучала неслыханной музыкой.
Испытывая на себе благотворное влияние жены, готовившейся стать матерью, живо воспринимая ее мягкость, благородство и любовь, подчиняясь пробуждающемуся в его сердце чувству отцовства, грубоватый, неотесанный Энникстер постепенно менялся на глазах. Его черствость и безжалостность быстро улетучивались. Как-то ночью, вернувшись домой после необходимой поездки в город, он застал Хилму спящей. Воспоминание об этой ночи было всегда с ним. Именно тогда он понял, какое великое счастье заключено в любви, которую он дарил и получал. Мысль, что Хилма доверилась ему, сознание собственного ничтожества по сравнению с ней, смиренная безграничная благодарность Господу за то, что из всех людей он его удостоил такого счастья,- все эти переполнявшие его чувства заставили Энникстера упасть на колени, впервые за всю его мятежную жизнь, исполненную баталий и раздоров. Он молился, сам не зная о чем, бормотал что-то невразумительное, мысленно давал обещание поступать впредь только по справедливости и отблагодарить как-то Бога за врученный ему дар.
Если раньше Энникстер заботился исключительно о себе, то теперь он думал исключительно о Хилмо. Время, когда забота о ком-то другом расширится и превратится в заботу о многих, было еще впереди, но его уже и сейчас заботила мысль о еще не рож денном ребенке; он уже - как в случае с миссис Дайк,- взял на свое попечение чужого ребенка и чужую мать, с которыми его связывало одно лишь чувство сострадания. Пройдет время, круг людей, нуждающихся з его внимании, будет расширяться, и настанет день. когда этот суровый, себялюбивый человек станет терпимым и великодушным, добрым и снисходительным.
Но пока что две стороны его натуры вели между собой борьбу. Ему предстояло еще одно сражение, последнее и самое жестокое: он должен был отразить врага, который поднял руку на его дом, его очаг. И лишь когда все утрясется, возобновится этот процесс духовного обновления.
Хилма высунулась из брички и окинула взглядом равнину, расстилавшуюся перед надвигающимся строем охотников.
- А где же зайцы? - спросила она Энникстера.- Ни одного не вижу.
- Пока что они далеко впереди,- ответил он.- Вот, возьми бинокль.
Взяв протянутый полевой бинокль, Хилма поднесла егo к глазам и подкрутила немного.
- Да, да! - вскричала она.- Теперь вижу! Вижу штук пять-шесть. Но они где-то очень далеко.
- Бедняги вначале еще пытаются удрать.
- Еще бы! Смотри, как бегут - совсем отсюда крошечные. Скачут, а потом присаживаются отдохнуть, навострив уши.
- Смотри, Хилма, вон один совсем близко.
Шагах в двадцати от них как из-под земли выскочил большой зайчище; он поднял длинные с черными кончиками уши и в несколько скачков скрылся из вида. Его серенькое тельце затерялось на фоне серой земли.
- Какой большущий!
- А вон и еще один!
- Да, да, смотри, как несется.
С поверхности земли, на первый взгляд лишенной всякой жизни, где, казалось, трудно было бы спрятаться даже полевой мышке, с приближением охоты то там, то тут поднимались зайцы. Сперва изредка и по одному, потом все чаще и сразу по два, потом по три. Они удалялись скачками по равнине; ускакав достаточно далеко, останавливались и прислушивались, навострив уши, а потом снова мчались дальше. Все новые и новые зайцы присоединялись к ним; они то припадали к земле, плотно прижав уши, то вдруг вскакивали и шарахались куда-то вбок, тут же возвращались, и с быстротой молнии скрывались из виду, только затем, чтобы освободить место другим.
Постепенно впереди на жнивье становилось все больше и больше зайцев. Для спасения своей жизни они выкидывали самые невероятные фортели, и не было двух зайцев, которые вели бы себя одинаково. Один залегали в ложбинках между двумя комьями земли и упорно лежали там, притаившись, до тех пор, пока над ними чуть что не нависало лошадиное копыто, и только в самый последний момент выскакивали из своего укрытия. Другие выносились вперед, но постоянно останавливались, словно чуяли, что ничего хорошего их впереди не ждет. А иные, когда их вспугивали, молниеносно вспрыгнув, делали петлю и стремглав бросались назад, пытаясь с опасностью для жизни проскочить между повозками. Всякий раз, как это случалось, поднимался дикий рев: