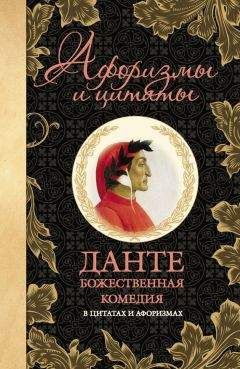Алексей Колышевский - Секта-2
– Быстрее! Там что-то случилось!
Она ринулась вперед, а Гиркан, будучи уже в солидном возрасте, когда не пристало вот так, сломя голову, бежать неизвестно куда, вынужден был что есть мочи припустить за женой, опасаясь потерять ее в этой огромной непредсказуемой толпе.
Достигнув краев людского озера, Мирра принялась спрашивать у всех о причине такого столпотворения, но стоящие вдалеке знали не более ее самой. Многие лишь пожимали плечами, кто-то пустого слова ради говорил, что там, впереди, будто бы сейчас казнят кого-то, но верилось в такое дело с большим трудом, потому что была суббота, а в этот святой день казнить преступников запрещалось.
– Да будет вам брехать, как глупые собаки, – повернулся в сторону Мирры и Гиркана какой-то низкорослый и коренастый человек, одетый в сильно поношенный дорожный плащ, подпоясанный куском простой веревки. Лицо его было плоским, как лепешка, на которой кто-то вырезал все необходимые для жизни отверстия. – Там мальчишка, который, говорят, пришел к утренней молитве и заявил, что он может прочесть кусок из Торы наизусть. Когда же его смеха ради спросили, с какого именно места он желал бы начать, то он заявил, что ему, мол, все равно. По закону не может читать Тору тот, кто не достиг еще тринадцати полных лет, но почтенный хасмоней Гиль, священник Арбелахский, заявил, что выскочку стоит проучить, воспитав таким образом в нем скромность, которую не воспитали до сей поры в отчем доме…
При последних словах плосколицего незнакомца Мирра вспыхнула и прижала к груди руки:
– А потом? Что же было дальше?!
– Мальчику разрешили прочитать ту главу, которая была намечена для сегодняшней субботы. Гиль предложил ему подойти к свитку и прочитать из него, говоря, что при произнесении священных заветов не должно ошибаться, как может получиться при чтении по памяти, что это тяжкий грех, но мальчик отказался и, в свою очередь, предложил Гилю по свитку следить за тем, что он станет говорить. Тогда Гиль очень разгневался и сказал, что, как только мальчишка первый раз ошибется, он велит высечь его прямо на площади перед синагогой на глазах у всего города. И что вы думаете? Мальчик стал наизусть читать этот самый отрывок с прекрасным выражением, с отменными ударениями, словно он долгое время учился быть оратором, а ведь ему от силы лет восемь!
– Почти десять, просто он очень худенький, – невольно вставила Мирра и запнулась на полуслове. – А зачем здесь все эти люди? Гиль что же, все-таки выпорол Шуки?
– Ах да! – заулыбался незнакомец. – А я-то все не могу вспомнить, какое имя он назвал. Ну конечно! Шуки, Йегошуа, что означает «Идущий за Моисеем»! Какое там выпорол? Скажешь тоже! Да этот мальчик оказался не только гениальным знатоком Торы, он еще и заткнул за пояс всех толкователей, сколько их было в синагоге, начиная с самого Гиля! И знаете, что велел сделать первосвященник Гиль? Он велел установить перед входом в синагогу помост, покрыв его праздничными покрывалами, и объявил, что этот мальчик чудесный ангел, который послан Предвечным для научения и наставления галилеян, а мальчика поставил на помост, и сейчас тот читает Тору для всех, кто собрался. Отсюда, конечно, почти ничего не слышно, но, как подует ветер, его голос доносится и до нас, здесь стоящих, и когда его слышишь, то на сердце отчего-то становится очень радостно.
Гиркан с вежливым поклоном вошел в разговор, спросил имя незнакомца, поинтересовался, откуда он. Тот назвался Матеусом.
– Римлянин! – охнул Гиркан и потянул Мирру за рукав: – Пойдем отсюда, женщина. Не стоит нам стеснять его в первый день славы. Он уже никогда не вернется домой, он теперь принадлежит людям.
Мирра, услышав лишь, что сын ее теперь не вернется домой, горько зарыдала. Пришлось Гиркану успокаивать ее, объясняя, что он имел в виду. Йегошуа начал выполнять свою нелегкую задачу, и он, разумеется, и впрямь никогда не вернется домой в том смысле, что никогда не стать ему прежним домашним ребенком. Мудрость его столь велика, что ее невозможно удерживать в тайне, пусть же она отныне служит людям. Мать очень хотела быть рядом со своим сыном, она смогла бы пройти через всю эту огромную толпу, как горячий нож проходит сквозь масло, но Мирра послушалась мужа и покорно дала ему увести себя прочь от площади, где делал первые свои шаги в Бессмертие ее сын, ее маленький Шуки…
IIШли годы, ученики мужали, а Кадиш стал совсем плох. Он ничем как будто не болел, а просто, по его словам, «устал носить на себе старое платье», имея в виду собственное, немощное уже тело. Так он говорил, бывало, разглядывая свои морщинистые, немного дрожащие руки.
– Вскоре я перейду в иной мир и останусь там навсегда. Напрасно вы льете слезы, – говорил он ученикам, которые от таких слов принимались рыдать еще горше, – я всегда буду где-то рядом, вы сможете получить мой совет, обратившись ко мне в своих мыслях и страстях.
Великий мудрец ушел перед восходом солнца в день великого праздника Кипуррим, дня искупления и отпущения грехов, а так как в этот день законом запрещено вкушать пищу и управлять повозкой, то ученики Кадиша, завернув тело учителя в белое льняное покрывало и положив в сколоченный Гирканом ящик, понесли его через весь город на кладбище. Когда последняя горсть земли легла на могильный холм, воцарилось долгое молчание, и каждый из тринадцати думал будто бы и о своем, а все же мысль у них была одна на всех: что же будет дальше? В молчании расходились они с кладбища, глотая соленые слезы, и лишь Иехуда притворствовал: голосил и заламывал руки больше остальных, и выглядело все это до того ненатурально, что простоватый по характеру и вспыльчивый Шимон отвесил ему подзатыльник.
Кладбище отстояло от городских ворот на расстоянии около полутора километров; шли они медленно, понурив головы, и потому не сразу заметили столб черного дыма, что в безветренную погоду клубами поднимался высоко в небо и рассеивался лишь где-то на непостижимой высоте. Первым из тех, кто заметил неладное, стал Иехуда, который после преподанного Шимоном урока сделался гораздо спокойнее и перестал паясничать, гротескно выказывая свое ненастоящее горе. Мысли его были совершенно о другом, и, если бы кого-нибудь из его товарищей не так терзала сейчас боль утраты, он смог бы без труда заметить, как лицо Иехуды время от времени искажала злорадная гримаса: рот презрительно кривился, а глаза источали ненависть. Контролировать себя, справляться с гложущими его страстями, столь явно читаемыми на лице, у Иехуды получалось с трудом. Но вот он поднял глаза, увидел дым и, прежде чем поднять тревогу, еще раз мстительно осклабился.