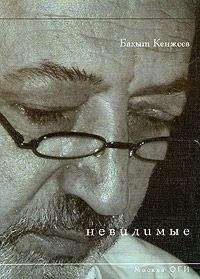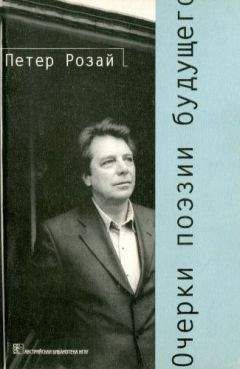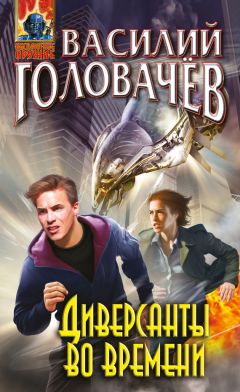Новый Мир Новый Мир - Новый Мир ( № 5 2007)
Елена Лапшина. Стихи. — “Радуга”, Киев, 2007, № 1.
Стреляет день из солнечных баллист
над тишью монастырского придела.
Улитка мерит виноградный лист
прикосновеньем маленького тела.
В янтарной капле на ее спине
таится свет для долгих летних странствий.
И кажется, что раковины нет —
сплошное неэвклидово пространство.
Татьяна Леонова. Шаламов: путь в бессмертие. — “Новый журнал”, США, № 245 (2006).
Кропотливое свидетельство о чудовищном последнем годе жизни Шаламова в доме для престарелых (литературная запись Ольги Исаевой ).
Ирина Лукьянова. Взрослый. К 125-летию Корнея Чуковского. — “Огонек”, 2007, № 13.
“<…> Часто говорят о том, что Чуковский до старости сохранил в себе ребенка: радость, умение удивляться, свежесть взгляда, непосредственность. Но куда удивительнее то, что в эпоху, которая выбивала из человека всякое желание брать на себя персональную ответственность, вечный ребенок Чуковский сохранил в себе взрослость. Качество редкое и удивительное: вокруг тысячи брюзжащих, ноющих, вечно недовольных, капризных детей, которые требуют, чтобы взрослый пришел и решил! пришел и разобрался! пришел и навел порядок! А взрослого нет. Дети строчат ябеды друг на друга, ругаются, мстят, обижаются на весь свет и сидят надутые в уголке в ожидании, когда мир раскается, позовет их оттуда и даст конфету.
А взрослых мало. Мало взрослого умения прощать и понимать. Умения ставить себе задачи и их решать. Желания и умения лично отвечать за что-то, кроме собственного благополучия. И когда есть такой взрослый — невольно тянешься к нему. А потом и сам понимаешь, что пора взрослеть”.
См. также в “Известиях”, № 55 (27339) интервью автора книги о Чуковском в серии “ЖЗЛ”. С Ириной Лукьяновой беседовала Ирина Мак.
“<…> — Но я не слышала о Чуковском ничего порочащего.
— Ну, обывателю дай только повод. Я помню, как журнал „Источник” опубликовал в 1997 году без комментариев случайно обнаруженное в архивах письмо Чуковского к Сталину. Это было письмо 1943 года, где Чуковский писал, что дети во время войны совершенно одичали и вышли из-под контроля. Он приводил примеры, казавшиеся ему вопиющими: дети воруют, бьют родителей, получают удовольствие от своей жестокости, разлагают других детей. В качестве мер по борьбе с этой ситуацией он предлагал создать макаренковского типа детские колонии, занять таких детей сельскохозяйственным трудом. И возвратить их к нормальной жизни, пока они не погибли. При этом манера изложения по нынешним меркам ужасна: Чуковский писал, что надо произвести чистку школ, изъять социально опасные элементы...
— И это добрый дедушка Корней...
— Да, и такое письмо напечатали без комментариев. Его комментируют все, кому не лень, не понимая, что и „колония” тогда значила иное, и опыт имелся в виду не гулаговский, а единственный удачный опыт социализации детей, дошедших до животного состояния. Это только один пример, показывающий, как важно воспринимать все в историческом контексте.
— Сталин ответил ему?
— Чуковский потом рассказывал филологу Эрику Хан-Пира, что его вызывали в Кремль — поговорить о необходимых мерах. И якобы чиновник, его принимавший, — это был не Сталин — спросил: „Корней Иванович, моему сыну 16 лет, как мне его воспитывать?” <…>”
Самуил Лурье. Прописные буквы. 24 марта — 100 лет со дня рождения Лидии Чуковской. — “Московские новости”, 2007, № 11 (1378) <http://www.mn.ru>.
“<…> Можно сказать и так, что вышел для этих слов срок годности. Одни утратили свой смысл, другие приобрели противоположный. Причем началась эта порча вообще-то давно (еще Салтыков, с его тревожным обонянием, ворчал, якобы недоумевая: дескать, был же смысл, что-то же они значили — такие, допустим, слова, как Совесть или там Правда, а кто их помнит?) — и с ускорением продолжалась целое столетие — и вот finita.
В самом деле — ну заставьте хоть свой внутренний голос произнести, предположим: „величие души” — нет, серьезно! серьезно! — получилось? То-то и оно.
А Лидия Корнеевна спокойно, уверенно и правильно пользовалась (и в текстах, и в быту) даже таким термином, как честь.
Она умела думать всеми этими — с прописных букв — существительными, чувствовать и действовать по этим архаичным глаголам.
Умела, вообразите, благоговеть. Презирать. Сострадать.
Сразу, как она умерла, все эти лексемы утратили отношения с реальностью. (Так осенью один резкий порыв ветра срывает с берез последнюю прозрачную листву — разом всю, но не дает упасть, истлеть спокойно.) Как если бы их ценность обеспечивалась исключительно существованием Лидии Чуковской.
Потому что она была — скажем под протокол, для школьного учебника — последним представителем русской классической литературы. Ее великая дочь <…>”.
Евгений Миронов. Унижение гордыни. Беседовал Константин Мацан. — “Фома”, 2007, № 3 (47).
“<…> — В интервью журналу „Итоги” вы сказали, что отказались от роли, потому что актеру нельзя играть Христа. Почему вы так считаете?
— Потому что, если зритель увидит актера в образе Христа, он, разумеется, будет сравнивать эту роль с ролью предыдущей, а потом с последующей. А это сразу снижает образ Христа до уровня какого-то обычного персонажа. Вот у нас есть герой боевика, вот у нас герой мелодрамы, а вот у нас Христос. Но это ведь не так. Иисус Христос — это символ. Но это не значит, что Его нужно играть, всегда ощущая нимб над головой, — а я убежден, что Христа необходимо играть, чтобы люди видели, изучали, восхищались, плакали. Но также я убежден в том, что это должен быть не артист. Это должен быть просто некий типаж, неузнаваемый человек, которого специально подобрал режиссер и который может духовно и внешне подойти на такую роль. Либо актер, который решится сыграть Христа, но сделать эту роль последней в своей жизни.
— А что такое для души актера — сыграть Христа? Это испытание? А может, это просто опасно?
— Не стоит здесь преувеличивать. Иисус Христос — не самая сложная роль…
— А разве может человек сыграть Богочеловека? Мне кажется, это принципиально невозможно.
— Абсолютно верно. Но если говорить о чисто профессиональной стороне дела — об актерском ремесле, — то Гамлета, например, сыграть сложнее — там больше страстей человеческих, а значит, больше метаний. В образе Христа есть все-таки харизматичность и некоторая упорядоченность. И для меня как для актера та же роль Гамлета — намного интереснее. Но если бы я снимал фильм о жизни Христа или еще каким-то образом прикасался к этой теме, то мне было бы интереснее всего найти в этом образе… сомнения! Очень сильные сомнения. Мне кажется, они могут там быть. „Чашу мимо пронеси” — это же сильнейший, космический эпизод в мировом пространстве.
— Есть хрестоматийное утверждение, что князь Мышкин в „Идиоте” Достоевского — это авторская интерпретация образа Христа. А Мышкина вы сыграли…
— Я сыграл один лучик, исходящий от Христа. Этакий солнечный зайчик. А вообще я не совсем согласен с распространенной мыслью о том, что князь Мышкин — это Христос. И мне кажется, что финал романа все объясняет. Ведь у Достоевского пессимистичный финал. А если бы героем произведения был Иисус Христос, наверняка что-нибудь светлое в конце романа произошло бы. „Идиот” — это роман о человеке. Правда, Мышкин — человек необычный: до двадцати трех лет он был болен, и на момент начала романа у него сознание ребенка — чистое, незамутненное (и это только подтверждает, что его история — это не история Христа, Который в тридцать три года был сильной, сформировавшейся Личностью). Но дети тоже бывают разные — агрессивные, злые, хитрые, требовательные. А Мышкин — он своего рода „инопланетянин”, ходит в скафандре и по ходу романа начинает из него вылезать: просто чтобы не выделяться, чтобы на него не показывали пальцем и дали жить так, как он может. А жить он может только с правдой и только любя — и любовью спасая. В этом его задача и его миссия на Земле. Он понимает, что ничего не сможет сделать, но при этом знает, что не сможет остаться в стороне от всего происходящего, и в довершение всего он отдает себе отчет в том, что погибнет, и пытается уехать подальше от всех. Но потом вдруг остается, говоря себе: „Как будет, так и будет”.
— Но разве это не путь Христа: прийти в мир людей, спасать его Любовью и знать, что тебя распнут?