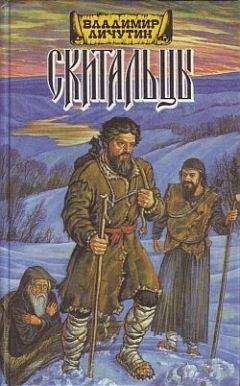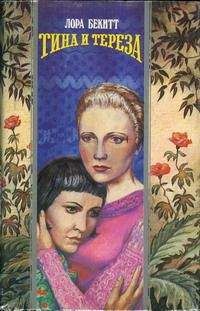Владимир Личутин - Скитальцы, книга вторая
– Момон, ты спишь? – снова спросила женщина и украдчиво, стараясь не потревожить скопца, перелезла через него. Нагая грудь щекотно скользнула по лицу. Скопец поежился, раздраженно подумал: «Не тяни время, кобылка, некогда мне с тобой возиться» – и едва расщурил глаза.
Смутно белея гибким, присадистым телом, женщина крадучись подошла на цыпочках к поддевке, ловко вытянула бутылочку с отравой, налила в чашку вина, не жалеючи всыпала содержимое и, всхлипывая, захлебываясь и рыдая, выпила жадными глотками. Чашка выпала из рук и, звонко отскочив от пола, хрустнула. Скопец испугался вдруг неведомо чего, ему стало страшно, и он порывисто сел, худо соображая горячей головой. Все было как во сне и походило на игру. Женщина тупо, как слепая, уже не видя и не понимая скопца, заползла на постелю, легла на спину, стыдливо потянула на себя одеяло. Боже мой, какая же в ней была тяга к смерти, если с такой неотвратимостью шла женщина к своему гибельному концу.
Клавдя, полуобернувшись и хрустя пальцами, любопытно всматривался в умирающую с неведомым ранее сладострастием, и липкий холодок ужаса и радости плыл по спине. Может, иного конца ждала, иного исхода желала незнакомка, когда выслеживала скопца и выпытывала его натуру? Отчего именно Момона выбрала она для своей последней игры? Чем таким поглянулся он и запал в душу, ежели из трех тысяч московских скопцов выглядела этого, тщедушного и жалкого, с широко расставленными камбальими глазами. Может, именно хилостью тела и привлек он, ибо более всего боялась женщина уйти из жизни растерзанной и безобразною, искровяненной, оплывшей в собственной руде и печенках. Она и после смерти желала остаться красивою, чтобы самые первые, оказавшиеся чудом возле ее кровати, не поразились ужасности и безобразию, что обычно преследует человека. Но этот, еще молодой меняла, немало поскитавшийся в притонах и подвалах ночлежек, он, поди, научился чему-то особенному и знает тихую смерть, похожую на сон. Но вот поторопилась она, невыносимо стало более ждать, заспешила уйти, вроде бы разуверилась в Момоне.
– Господи, прости! – вскричала женщина. – Возьми к себе и помилуй. Не хочу жить, не хо-чу-у…
Тело ее ломали судороги, но женщина так боялась умереть безобразною, что упорно пересиливала корчи и муки, последние вопы отлетающей души. А как хотелось вскричать в полный голос, по-собачьи завыть и этим криком утолить замирающее сердце. Она слышала, как коченели ступни, как стужа подымалась по голеням, вот отнялись колена, занемели бедра и спину одело железною кольчужкой. Но она все слышала и все соображала с необыкновенной ясностию ума, и единственно, что беспокоило и мучило ее, чтобы этот случайный человек вдруг не взялся ее излечивать и спасать. Кинется за людьми, примется сзывать, набежит любопытный народ… Память женщины стала меркнуть, угасать, пошла волнами, потом все заслонил любимый образ, солнечно-ясный, улыбающийся, с распахнутыми откровенными глазами; на шее под адамовым яблоком билась голубая жилка. И вдруг откуда ни возьмись наползла сверкающая змея с любопытной пестрою головкой и обвила шею…
Момон нагнулся над умирающей и внимательно запоминал последние минуты. Шептал, едва касаясь губами холодеющего лба:
– В тебе самой воля, ты эту волю исполни. Богу не угодно, матушка, чтобы ты умирала. Но Богу не угодно, чтобы ты жила. Ты не умри.
Потом холодно осмотрел комнату, поскреб ногтем ледяную наросль на окне, приложился одним глазом к черному омутку, но ничего не разглядел во дворе. «Зачем я тут? – вдруг тоскливо подумал, запахиваясь в бекешу и ежась от мерзкого холода в груди. – Кто завлек, кто приневолил, будто за руку тянули?» Но тоскливые мысли, однако, не сбивали его с равнодушного трезвого расчета. От окна Момон еще раз оценил жилье, фарфоровую чашку со стола убрал в карман бекеши, помялся и звено красной рыбы, чтобы не протухло, не пропало даром, сунул за пазуху. «Дома съем» – так решил грустно. Вслух пробормотал:
– Говорил тебе, баба, кушай больше. Закоим и в лавку ходил, тратился. Деньгами ведь плочено. Но ловка, ой ловка. Как скоро все устроила. Хитровановна…
Момон едва приоткрыл дверь, выглянул на лестницу: слава Богу, никого нет, лишь внизу мерцает фонарь. Момон скоро и бесшумно, однако не теряя степенности, спустился вниз, вытаился на улицу и глубоко вздохнул. Ни души, кажись, пронесло. А впрочем, что за вина его? Руки к сему он не прикладывал, просто бабе в рай захотелось. По-прежнему сверху сыпало, и сквозь тихий хлопьистый снег проныривали редкие согбенные люди. Заложив руки за спину, слегка присбив папаху на затылок, Момон удалялся по тротуару меж сугробов, торя свою тропу. Теперь он заново переживал случившееся и чувствовал необычайную душевную легкость и радость. Момон еще раз представил свое поведение и остался вполне доволен собою. По пути он зашел в трактир Горячева, сразу пересек громадную залу, посыпанную опилками, вдыхая запахи варева, доносящиеся с раскаленной плиты, с интересом оглядел буфет, где на полках красовались батареи бутылок с водкою ординарной и двойною, всякие сладкие наливочки, ром и желудочная.
Вышел буфетчик, хорошо знавший скопца в лицо, и Момон пожаловался тому, дескать, угорел и едва поднялся с постели ни жив ни мертв. Потом сел за край длинного стола, заказал ухи из сушеных тресковых голов да пару чая. Неторопливо откушал, вернулся домой. Часы отбили семь. У прислуги узнал, когда та вернулась, и тоже слезливо пожаловался, потирая виски, мол, угорел, едва не умер, да Богу спасибо, окликнул, потом был в трактире Горячева, поел ухи из сушеных тресковых голов, и вроде полегчало. Знать, не срок уходить из мира, не срок.
Момон удалился в спаленку, положил в уши мерзлой клюквы, рискуя остаться глухим, и со спокойствием лег спать.
Глава пятая
И миновали они саженный обетный крест из лиственничных плах с двускатной тесовой крышей и крохотным эмалевым образком Божьей Матери Умиленной; именно здесь в старопрежние времена случилось иноку Питириму видение, тут и похоронен был он, а не на мертвой горке за монастырем. И, пройдя бережину сквозь, ватажка подступила к Беловодью. Глянул Донат вверх и ахнул, не скрывая удивления и торжества, столь маленьким и ничтожным вдруг помыслил себя. Двойная стена городища с земляной насыпкой и подмостьями на случай обороны была рублена из неохватных бревен с заостренными верхами высотой сажени в три с половиною (откуда и лес такой плавили?), но пригнаны пали столь плотно, что меж ними, пожалуй, исхитрись человечий волос протянуть. По углам высились сторожевые башни на ряжах, с колокольными звонами. Гудел, не уставая, в монастыре трехсотпудовый батюшка-колокол, отлитый монахами-братьями, с пяти же угловых башен согласно подтетенькивали его сыновья, да малые дочери согласно подгудывали, тенорили колокольцы внучатые. Весь остров был залит звоном и боем, и мелкой подголосицей, и стеклянной хрупкой дробью; казалось, сама мать-земля пела, торжествуя: «Милос-ти просим, радуйтесь! Мило-сти просим, радуйтесь!» Но странно, что благовест не растилался по-над озером, не утекал предательски, не ударился в чужие пределы за лесистые хребты, но алым куполом подымался в белесую жидкую синь, слегка подмуравленную заходящим солнцем.
«Что за причина? Что за торжество?» – снова подивился Донат, уже от всего млея, не в силах оторвать взгляда. Они шли окруженные неоружной ватажкой, брусчатая дорога некруто вздымалась меж высокими двужирными избами; и эти пятистенники, по задам окруженные репищами и военными амбарами, но без высоких заплотов, как водится по всей Сибири, тоже чем-то напоминали милую дальнюю родину. И здесь, как и в Поморье, с охлупней то ржали деревянные кони, то стонали и хоркали костяные олени, свесив над улицей ветвистые рога. Благовест обволакивал Беловодье, и от согласного колокольного пения избицам, наверное, тоже хотелось расти, и они тянулись вверх крутыми скатами крыш, деревянными узорчатыми дымницами, каждой связью еще не тронутого древоточцем тела. Передами хоромы гляделись на улицу; дорога вилась под косящатыми оконницами, закручивала одну петлю, потом вторую, но часовня с золотым шеломом, казалось, не приближалась и виделась недоступной. Пока двигались мерной поступью, Донат насчитал триста изб. Потом открылся взгляду небольшой прогал, травянистый лужок, за ним вставала монастырская стена, натуго перевязавшая монашескую обитель. И еще чему поразился Донат, когда кружили они по городищу, что в скопах народа, высыпавшего на заулки, в подворья, на улицы, свесившихся любопытно из оконниц, не виделось ни одного печального иль завистливого, грубого иль слезливого обличья. Весь народ ликом был удивительно светел, а телом крупен и породист, и только темные продолговатые глаза да крутые туземные скулы выдавали присутствие чужой крови. Женщины были в темно-синих сарафанах-костычах, темно-синие платы, по староверскому обычаю, вроспуск, зашпилены у шеи, на ногах кожаные полусапожки с серебряными пряжками; девицы-хваленки, что на выданье, те в голубых расшитых рубахах с опоясками под самую грудь, тугие щеки молоком промыты и густо нарумянены, брови насурьмлены, русые с рыжиною волосы убраны в тугие косы. И ни одной средь женщин старицы согбенной, подпирающей дряхлость свою батожком, как водится по всей Руси. Мужики же, напротив, все в белом – белые долгие рубахи ниже колен и белые порты, лишь на плечах короткие меховые поддевки, крытые темно-синим своедельным сукном, на ступнях остроносые опорки без каблуков, волосы подбиты в кружок и, чтоб не сыпались на глаза, подобраны кожаной тесьмою. Но парни – те в алых рубахах с косым воротом и с позументами, в наборных серебряных поясах и шелковых шальварах, туго перевязанных под щиколотками, а на русых кудрях легкие пуховые скуфейки. И снова меж мужчин ни одного трухлявого старца, прибитого годами. Будто и не изживался народ, а, вечно молодея, так и тянулся в небо иль в ранних годах исходил на нет. Но кабы в зрелую пору засыхал народец, то давно бы уж извелось Беловодье и быльем поросло. С великой жалостью и недоумением, как на несчастненьких, глядели беловодцы на скитальцев, дивились их печальному, истерзанному виду, так полагая, что в тех землях, откуда явились по-бродяжки, все так живут. И от этой мысли сердечная радость не тускнела, но, напротив, обретала большую крепость. Не доверяя глазам, насельники щупали паломников, касались края одежд, а кто и норовил погладить заскорбелые руки. Кричали, как глухонемым: