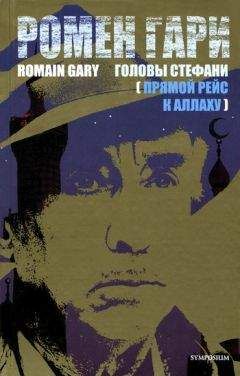Стефани Цвейг - Нигде в Африке
В углу, между несколькими кастрюлями и ржавой сковородой из Леобшютца, на полу с закрытыми глазами сидел Овуор и растирал себе ноги. Возле него лежал Руммлер. Собака действительно не спала, на шее у нее была толстая веревка.
Под кухонным столом лежал туго набитый узелок из носового платка в бело-голубую клетку, привязанный к толстой деревянной палке. В одну из многочисленных дыр высовывался рукав белого канзу, в котором Овуор еще с Ронгая подавал еду. На подоконнике лежала черная мантия Вальтера, отглаженная и аккуратно сложенная вчетверо. Он узнал ее только по осыпающемуся шелку на воротнике и отворотах.
— Овуор, что ты здесь делаешь?
— Сижу и жду, бвана.
— Чего?
— Я жду солнца, — объяснил Овуор. Он дал себе время только на то, чтобы наколдовать в свои глаза такое же удивление, какое было в глазах у бваны.
— А почему у Руммлера на шее веревка? Ты хочешь продать его на базаре?
— Бвана, кто купит старую собаку?
— Я хотел посмотреть, как ты смеешься. А теперь давай говори, почему ты здесь сидишь?
— Ты знаешь.
— Нет.
— Ты всегда лгал только ртом, бвана. Мы с Руммлером уходим в большое сафари. Кто первым уходит в сафари, у того сухие глаза.
Вальтер повторил, не открывая рта, каждое слово. Почувствовав в горле боль, он сел на пол и погладил Руммлера по короткой жесткой шерсти на затылке. Теплое тельце собаки напомнило ему о, казалось бы, давно погребенных в памяти ночах перед камином в Ол’ Джоро Ороке, и ему захотелось спать. Он воспротивился успокоению, которое уже заставило его прижаться головой к коленям. Сначала ему было приятно давление на глазницы, но потом ему начали мешать цвета, распадавшиеся на свету, как и его мысли.
У него было такое чувство, будто он уже присутствовал при этой сцене, казавшейся ему какой-то нереальной, вот только не мог вспомнить, когда это было. Его память быстро и слишком охотно пустилась демонстрировать ему путаные картинки. Он увидел своего отца стоящим перед отелем в Зорау, но, когда свеча начала последнюю борьбу за жизнь, отец отвернулся от сына и превратился в Грешека, стоявшего в Генуе у лееров «Уссукумы».
Флаг со свастикой рвался на ураганном ветру. Вальтер в изнеможении ждал звука голоса Грешека, твердое произношение и упрямую злость в слогах, от которых прощание было бы еще тяжелее. Но Грешек ничего не сказал, только так сильно замотал головой, что флаг отвязался и упал на Вальтера. Он не чувствовал уже ничего, кроме собственного бессилия и тяжести молчания.
— Кимани, — сказал Овуор, — твоя голова еще помнит Кимани?
— Да, — быстро ответил Вальтер. Он был рад, что снова может слышать и мыслить. — Кимани был мне другом, как и ты, Овуор. Я его часто вспоминал. Он убежал с фермы до того, как я уехал из Ол’ Джоро Орока. Я не сказал ему «квахери».
— Он видел, как ты уезжал, бвана. Он слишком долго стоял перед домом. Машина становилась все меньше. На следующее утро Кимани умер. В лесу нашли только кусок от рубашки Кимани.
— Ты мне никогда не рассказывал об этом, Овуор. Почему? Что случилось с Кимани?
— Кимани хотел умереть.
— Но почему? Он не был болен. И старым еще не был.
— Кимани всегда говорил только с тобой, бвана. Ты еще помнишь? Бвана и Кимани всегда были под деревом. Это была самая красивая шамба с самым высоким льном. Ты наполнил его голову картинками из своей головы. Кимани любил эти картинки больше своих сыновей и солнца. Он был умным, но недостаточно. Кимани пустил соль из своих глаз в тело и стал сухим, как дерево без корней. Мужчина должен идти в сафари, когда наступит его время.
— Овуор, я тебя не понимаю.
— «Овуор, я тебя не понимаю». Ты так всегда говорил, когда твои уши не хотели слушать. И в тот день, когда прилетела саранча. Я сказал: «Саранча прилетела, бвана», но бвана сказал: «Овуор, я тебя не понимаю».
— Прекрати красть мой голос, — сказал Вальтер. Он заметил, как его рука тянется от шкурки Руммлера к колену Овуора; он хотел повернуть ее обратно, но она уже не слушалась его воли. Некоторое время, показавшееся ему очень долгим, он противился пониманию, все сильнее чувствуя тепло и гладкость кожи Овуора. Потом пришла мука, а с ней уверенность, что это прощание беспощаднее всех предыдущих.
— Овуор, — сказал он, втирая самообладание в свою свежую рану, — что я скажу мемсахиб, если ты сегодня не выйдешь на работу? Я должен сказать: Овуор больше не хочет помогать тебе? Или: Овуор хочет забыть нас?
— Чебети будет работать за меня, бвана.
— Чебети всего лишь айа. Она не работает в доме. Ты же знаешь.
— Чебети тебе айа, а мне жена. Она будет делать то, что я скажу. Она поедет с тобой и мемсахиб до Момбасы и подержит маленького аскари.
— Ты никогда не говорил, что Чебети твоя жена, — сказал Вальтер. Его голос, полный упрека, показался ему детским, и он застенчиво стер пот со лба. — Почему, — тихо спросил он, — я не знал этого?
— Мемсахиб кидого знала. Она всегда все знает. У нее глаза, как у нас. А ты всегда спал на своих глазах, бвана, — рассмеялся Овуор. — Собаке нельзя на корабль, — сказал он так быстро, словно каждое слово уже давно было у него во рту. — Она слишком стара для новой жизни. Я пойду с Руммлером. Так, как я ушел из Ронгая, а потом из Ол’ Джоро Орока в Найроби.
— Овуор, — устало попросил Вальтер, — ты должен сказать мемсахиб кидого «квахери». Я должен сказать моей дочери: Овуор ушел и не хочет больше видеть тебя? Должен ли я сказать: Руммлер ушел навсегда? Эта собака — часть моего ребенка. Ты же знаешь. Ты был при этом, когда они с Руммлером подружились.
Вздох был как первый свист ветра после дождя. Пес пошевелил ухом. Его визг был еще у него в пасти, когда открылась дверь.
— Овуору надо уходить, папа. Или ты хочешь, чтобы его сердце засохло?
— Регина, когда ты проснулась? Ты подслушивала. Ты знала, что Овуор уходит? Как вор в ночи.
— Да, — сказала Регина. Она повторила это слово и покачала головой так же, как тогда, когда показывала брату, что нельзя рыться в собачьей миске. — Но не как вор, — объяснила она, и печаль легла тяжестью на ее голос. — Овуору нужно уйти. Он не хочет умереть.
— Господи, Регина, прекрати болтать ерунду! От прощания не умирают. Иначе я бы давно умер.
— Некоторые люди умирают, но продолжают дышать.
Регина испуганно закусила нижнюю губу, но было уже слишком поздно. Она уже глотала соль, а ее язык был не в силах вернуть сказанное. Девочка так смутилась, что даже подумала, ее отец смеется, и не посмела взглянуть на него.
— Кто тебе такое сказал, Регина?
— Овуор. Уже давно. Не помню когда, — солгала она.