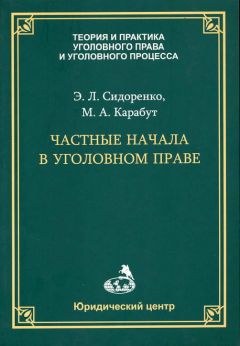Владан Десница - Зимние каникулы
— Визит к Фуратто.
— Да… И вот так, значит, переходя от одного больного к другому, при таком питании, которое вовсе не соответствует его возрасту, истощенный поносом, он день за днем продолжал лазить через груды развалин и взбираться по разбитым ступенькам, пока однажды в темноте не споткнулся, упал и сломал ногу. И вот теперь он лежит в этой барачной больнице, среди наголо остриженных солдат, играющих в карты на грязных постелях. О, как он обрадовался, увидев меня! Вы один из редких людей, сказал он мне, кто помнит прежние времена и с кем у меня есть точки соприкосновения во взглядах и в воспоминаниях. Посмотрите сюда, он указал мне пальцем на кладбище, видите вон ту могилу в углу, со сломленным стволом каменного дерева? Это участок семейства Фуратто. Вот этот самый надгробный памятник я заказал и оплатил из моих первых доходов. Там покоится моя добрая тетка Шимица, которой я всем обязан. И там я очень скоро лягу и сам….
— Несчастный Фуратто! — вздохнула Лизетта. — А кто знает, где теперь та особа?
— Оставьте ее! Может быть, она тоже свое заплатила! Когда опять поеду в Задар, я отнесу ему несколько свежих яиц и бутылку молока.
Воцарилось молчание. Лизетта, погрузившись в задумчивость, перекатывала ноготком крошки по скатерти. Вдруг откуда-то в ночной глубине раздалось несколько отдаленных винтовочных выстрелов, и это вернуло их к действительности.
Все прислушались, подняв головы.
— Ничего, это далеко, — ласково утешил их Ичан. — Это наши пацаны, что винтовки добыли, забавляются, кто кого, — что с ними поделаешь!
XXIX
Среди «пацанов, что винтовки добыли», главным был Драго. Горожане не могли его вспомнить: должно быть, когда он был ребенком, они не обращали на него внимания.
— Да как же это вы его не знаете, сын вдовой Митры, кривой! — объяснял Ичан в твердом убеждении, что таких его особых примет вполне достаточно для любого.
Это был паренек лет пятнадцати-шестнадцати, с не особенно крупным и совсем еще детским лицом. Прочими членами дружины были Радан Пуповац и Йоле Мрша, оба на год-два постарше Драго, и еще несколько менее видных ребят.
Довольно часто беженцам стали попадаться на селе какие-то совсем безусые молодцы с винтовками, которые бросали на них беглые, но достаточно неприязненные взгляды.
«Эге, наверняка те самые!» — сообразили они. Теперь, следовательно, они о них знали.
Случалось, ребята собирались у здания бывшей артели и соревновались, стреляя по всему, что попадало в поле их зрения. В качестве мишени ставили на верхушку памятника Миле какой-нибудь камень или четверть красного вина. Били по воробьям на чужих крышах, по молодым ивам у Париповаца, по случайно забежавшему псу из другого села или же просто по тому, что попадалось под руку.
Ибо разные разности придумали люди на этом свете, однако ж ни одной такой не найдется, чтобы с винтовкой сравнялась! Она — венец всяческих изобретений, самое дьявольское из всех. Маленькая, сподручная — можешь ее за плечо повесить и вместе с нею моря и реки переплывать, леса и горы одолевать, а если привыкнешь к ней, то и тяжести ее не замечаешь. А понадобится — изволь, вот она под рукой. С ее помощью мир словно бы уменьшился — все доступно, все рядом. Из этого тонкого, узкого ствола, куда и мизинец-то не засунешь, сто чудес происходит. При помощи малейшего, едва заметного усилия можно большие перемены вызвать в окружающем мире. А на каком расстоянии! Жаркий летний полдень, ни ветерка, небо побледнело от зноя; вдоль дороги в бесконечность убегают телеграфные столбы, а на них однообразные белые чашечки, вокруг которых обмотаны проволочки. Три точки на одной прямой — цель, мушка, глаз — чуть нажмешь спусковой крючок — вот она! Чашечка лишь сверкнет в раскаленном воздухе белыми искорками — и нет ее, а освобожденная проволочка печально обвисает. А как при этом пуля свистнет, этот звук ни с каким иным не сравнишь! (Говорят, будто глухого винтовка половины радости лишает.) Опять три точки на прямой — цель, мушка, глаз — и бежавшая мимо собака, которой точно в лоб угодило, описывает круг и укладывается внутри него! Гусыня идет навстречу, шипит на тебя, не сводит с тебя своего глупого глаза — а ты аккурат ее в этот глупый глаз — и готово! Воистину быстрые и решительные перемены; нечто только что существовавшее больше не существует; живое мгновенно обратилось в неживое, дичь в добычу, враг и недруг в бессильное ничтожество. А ненависть, чреватая тревогой, исполненная угрызений, уступает место чувству ублаготворенности и отличной благостности.
Уже само по себе попадание — во что угодно, в старое ведро, в тыковку на огороде, в церковный колокол, — доставляет человеку удовольствие. Целишься, целишься, нажмешь — и вопль несется встречь: попал! И волна удовлетворенности, как волна крови, прихлынет к щекам, прямо из самого сердца. Орленок кружит в небе; несколько раз взмахнул крыльями, раскрыл их и наслаждается; цель — мушка — глаз — и как рукой сбрасываешь его с неба.
Но лишь по живому, когда по человечине бьешь — вот оно, истинное наслаждение! Потому что цель подвижная, беспокойная. А ловкая, стремительная! Мгновенно скроется, метнется под забор, с землей сравняется — вот-вот исчезнет. Толкуют, будто гайдуку Обраду Мустачу не по душе было бить по неподвижному человеку. В таких случаях, бывало, он вот как действовал: даст ему пару оплеух и орет: уходи, пока ноги носят и пока я не раскаялся! Тот чуть отойдет, он ему вслед: беги, стрелять буду! Тот, бедняга, сердце в пятках, очертя голову вперед, вот-вот за кустом скроется, как зайчик — винтовка, фьють! — и носом землю пашет.
И в окрестностях вроде бы начались дела. Петрина рассказывал, вернувшись из Карина, как там лукаво и хитро шутки шутили с попом Стевой. Положили, говорит, винтовку в изгороди, на попов дом нацеленную, точно в середину окошка, заложили ее и укрепили большими камнями, крепко пристроили. И вот однажды посреди ночи зовут попа (а под язык камешек подложили, чтоб голоса не узнал): дескать, выходи, надо идти причащать умирающего. («Деваться некуда!» — должно быть, подумал поп, натягивая подштанники.) Распахнули оконце-то, а из тьмы винтовка и выпалила, прямо туда, куда днем навели. Только, на его счастье, не поп это оказался, а попова служанка, приморка Барица, что сунулась поглядеть, кто там. Стукнуло ее, говорят, аккурат в самый лоб.
— Эх, во как! — произнес кто-то из них.
— А кой дьявол заставил католичку Бару служить православному попу? — возразил другой.
Через несколько дней после этого разнеслось, будто в канаве у дороги, в километре от Жагроваца, нашли убитыми и ограбленными двух морских капитанов на пенсии от Подвелебитского канала, которые пешочком пошли в Бенковац какие-то бумаги выправить. Сняли с них часы, разули, взяли те наличные деньги, что при себе несли. И никакого следа не нашли, кто это сделал, правда, Радан Пуповац не сумел с собой справиться и однажды вечером, в корчме, пьяный и угрюмый, стал то и дело вынимать из кармана серебряные часы на цепочке и ножичком ковырять в них, кидая из-под нависших бровей злобные взгляды на каждого, кто пытался встрять в это дело.
А в воскресенье появился в селе мужик с островов в полотняных штиблетах и кожаном пиджаке, привез на осле два мешка соли в обмен на кукурузу; прижимал, много просил, но и за деньги отдавал. На другой день спозаранку услыхали несколько выстрелов, а чуть погодя обнаружили мужика мертвым в лесочке при дороге. И тут не узнали, чьих рук дело. Правда, несколько дней спустя толстая Стевания сболтнула между бабами на Париповаце (сболтнула и тут же покаялась), будто братия крепко поругалась из-за кожаного пиджака, и дело едва не дошло до крови.
Громче прозвучало и подробнее о том толковали, когда ограбили и на куски порезали корчмаря Мудоню, на перекрестке недалеко от Батуровой кузни; должно быть, и потому, что Мудоня был человек имущий и видный, и потому, что наверняка знали, что это устроили люди из другого села.
— Не могут, брат, и Смилевцы быть виноваты за всех на свете! — отбивал чуть ли не с обидой один из пожилых и серьезных смилевацких стариков подозрение на свое село, и все в один голос его одобряли.
— Да, блат, сто верно, то верно! — поддакивал и Глича, сплевывая мимо трубки.
Вообще же все в Смилевцах жалели Мудоню, хвалили его как человека душевного, осуждали гнусное преступление.
— Эх, люди, что прошло, то прошло! Да только не надобно бы такое откалывать!
— Ясно, не надобно, что б там ни говорили!
— Поглядел бы только, как его разнесли! — рассказывал кто-то из видевших тело своими глазами. — Вот тут поперву рассекли, потом вот тут рубанули… — на себе показывал очевидец.
Все молча слушали. Задние выгибали шеи, наклонялись через головы передних, чтобы лучше видеть. Ужасно интересовали их эти технические подробности.