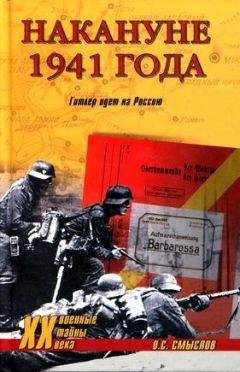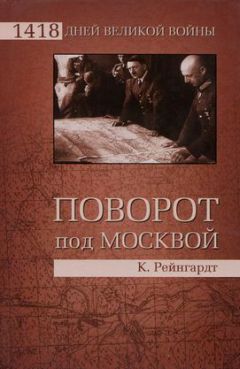Игорь Шенфельд - Исход
Пришло время Аугусту сказать себе, что он счастлив, наконец. И он говорил себе это постоянно. Говорил и вслушивался в себя: как это звучит? Это звучало хорошо, но сердце за словами не успевало. Сердце как-то все не могло привыкнуть к тому, что он счастлив. Воображение все еще не могло охватить этого факта — что Уля, которую он так долго и безнадежно ждал, теперь его жена: родной человек, сказавшая ему «да» при свидетелях.
Аугуст вспоминал себя — тоже тогда очень счастливого, двенадцатилетнего — на стогу сена, лежащего на спине, наблюдающего за белыми облаками, плывущими по синему небу. Но теперь к тому давнему, безбрежному воспоминанию счастья от полученного подарка, называемого жизнью, примешивалась тревога: уж больно быстро летели тогда эти легкие, светлые облака, уж больно быстро закончился тот день. И сколько бурь и черных вихрей промчалось вслед за ним? Надолго ли приходит счастье? Как угадать? Это внезапное счастье, упавшее на него сейчас; счастье, с которым он давно распрощался в сердце своем и к которому нужно было ему привыкнуть теперь заново; счастье, которое сидело сейчас рядом с ним в образе любимой, желанной женщины: это внезапное счастье напоминало ему те быстрые облака в том синем небе детства. Не унесут ли его вдаль жестокие, нам неподвластные ветры судьбы; не промчится ли мимо так же быстро, как прилетело вдруг?
Мать — седенькая, очень нарядная благодаря стараниям Абрама по такому великому случаю — милая, драгоценная мама его сидела рядом с ним, через угол стола, и не сводила с него бездонного взгляда, на поверхности которого стоял только один немой вопрос: «Что теперь будет с нами? Что теперь будет с тобой, мой мальчик? Что теперь будет со мной?». Аугуст кивал ей ласково, и она отвечала ему ласковым кивком, но вопрос из глаз ее не исчезал. Облака, облака, облака…
Облака вы, облака, тучки вы небесные… Одно из них уже тихонько проплыло по чистому небу: Ульяна осталась на своей фамилии, и Спартачок ее — тоже. Что ж, и понятно это было, конечно, и правильно было это, разумно: грозные времена продолжали висеть над страной, и надежней было жить в ней с именем Рукавишников, а не Бауэр — фамилией, стоящей на учете в спецкомендатуре. Облачком являлся как раз тот факт, что предложила такой вариант Ульяна, а не Аугуст. Совершенно понятно, что Аугуст и сам настоял бы на том же самом, но поторопилась предложить это именно Уля, и Аугуста это огорчило.
Другим облачком стала мать. Она была предельно вежлива с невесткой, но не более того; она баловала благоприобретенного внука пирожками — но не более того. Она как будто даже и радовалась женитьбе сына — но не более того. Мать снова интересовалась газетой «Правда» — той страницей, где печатают указы. Она все ждала одного-единственного указа: того, который бы отменил Указ от 28-го августа 1941 года. Она все еще ждала. Аугуст ждал тоже, но теперь уже иначе: теперь это ожидание не было столь тягостным для него как раньше.
И еще одна тучка была: жили пока на два дома. Ульяна с сыном оставалась под отцовской крышей, зятю Аугусту, разумеется, здесь тоже было выделено место и в доме и за столом, и на широкой кровати с никелированными шариками по углам, но он чувствовал себя там неуютно, гостем. Поэтому он форсированно, используя каждый свободный час, которых выпадало совсем немного в беличьем колесе колхозных дел, пристраивал еще одну просторную комнату к своему «немецкому домику». Из-за этих дополнительных хлопот Аугуст у Рукавишниковых бывал далеко не ежедневно, иногда раз в неделю, а когда являлся, то качался от усталости. Но Ульяну это, кажется, и не задевало: она радовалась, когда видела его, и не сильно расстраивалась, кажется, когда он утром рано убегал на работу. Да ей и не очень-то до него было, честно говоря: школа и собственный ребенок укатывали к вечеру и ее до полного изнеможения.
Пристройка росла медленно: не хватало времени и денег, порою — сил тоже, а чаще — всего вместе. Но все же она росла. Весной Аугуст купил в Чарске старый, давно уже нежилой деревянный дом с просевшей крышей: купил ради сруба, бревен. Колхозники ему завидовали: капиталист! А все потому, что наемным стали платить небольшие деньги в виде зарплаты, а самим колхозникам — исключительно натурпродуктом, как и раньше. Так что тощие рублики, которые водились у колхозников, добывались ими исключительно за счет личного подворья, однако для городского базара почти ни у кого не было ни времени, ни транспорта. Покупка дома за деньги — это было актом невиданного роскошества в глазах колхозного крестьянства, даже если «дом» этот представлял собой полуразвалившуюся, сгнившую избу за сто рублей, в которую боялись заходить даже бродячие собаки, обладающие развитым чувством опасности. «Конечно, — понимающе кивали друг другу селяне, — Баер зять теперь: как же Иваныч дочке своей да не подможет?». Невдомек им было, что ни копеечки не взял Аугуст у новоиспеченного тестя; он вообще практически перестал обращаться к Рукавишникову с просьбами разного рода, как прежде, чтобы не создавать видимости избранности, или еще хуже — не вляпаться в эту избранность фактически: лагеря приучили его держаться от начальства на отдалении — даже от самого хорошего и доброго начальства, хотя такового и не бывает по определению. А вляпаться в избранность он мог запросто: дочка была ахиллесовой пятой Рукавишникова: железный характером, честный и принципиальный, он ради нее — подозревал Аугуст — и колхозом пожертвует, и партией родной, и собственной жизнью. Удивительно, что он не возненавидел Аугуста за увод дочери в немецкую семью — стаю все еще не реабилитированных врагов народа. Хотя, может быть и возненавидел, но любовь к дочке была в нем столь сильна, что частью переливалась и на Аугуста, приглушая ненависть. В любом случае, отношения Аугуста с председателем, вместо того чтобы обрести родственную теплоту, стали, наоборот, суше и формальней. Аугуста это не особенно угнетало, однако это обстоятельство тоже можно было считать облачком в достаточно ясном небе его новой, семейной жизни.
Старый сруб Аугуст успел притащить еще по снегу, на широком стальном листе, целиком, обвязав его кое-как толстой проволокой, провожаемый восторженными пацанами и лающими собаками, не привыкшими к виду разъезжающих по степи деревенских домов. Каждую секунду Аугуст боялся, что сруб рассыпется и придавит сопливых придурков, постоянно вскакивающих на волокушу, чтобы прокатиться. Помощник Аугуста Серпушонок был на последнем этапе работ уже никакой: после того как погрузились, взгромоздили дом на волокушу, Андрей Иванович где-то «нашел», в результате чего ехал теперь в кабине трактора в состоянии обмякшей ватной ветоши, громко постукивая черепом по всем окружающим металлическим предметам, до которых докатывалась его голова. За Серпушонка Аугуст беспокоился всерьез: не доедет ведь, сволочь, пробьет башку в какой-то миг штормовой качки — и Аугуст снова и снова нахлобучивал своему неодушевленному помощнику нутриевую шапку на его зеленоватые уши. За день доползли, однако, до цели и даже без глобальных потерь: хотя крыша завалилась по дороге внутрь сруба окончательно, а сам сруб скособочился до формы ромба, но доехал, вытерпел дорогу, и с волокуши соскользнул уже на подъезде к «немецкому домику», перед самыми воротами, на склоне. Там, где сруб упал, Аугуст его и раскатывал затем, рискуя жизнью. Но ничего — раскатал. Половина бревен пошла на дрова, но остального материала на пристройку как раз хватило — и на стропила, и на обрешетку.
К зиме пятьдесят первого года пристройка была готова, и Аугуст привел семью к себе, не взирая на решительные протесты Ивана Ивановича Рукавишникова, у которого в доме условия — особенно для ребенка — были, конечно же, гораздо лучше. Дело даже запахло открытым конфликтом с тестем, но Уля все уладила сама: дом отца был рядом со школой, и весь день Спартак находился там, под присмотром старой тетки, и лишь вечером Ульяна приходила с ним к Бауэрам, ночевать. А частенько и не приходила. Тучки, тучки…
И все равно Аугуст был счастлив. Да, это было счастье с горчинкой, как варенье из калины, но разве бывает настоящее счастье иным? А тучки? А что — тучки? Без тучек небо только в Австралии бывает, однако и там не все живут счастливо — особенно аборигены.
Так и потянулись годы, и все было хорошо, а может быть даже и отлично было, если знать, чем «отлично» от «хорошо» отличается. Ульяна частенько смотрела в окно в то время как Аугуст смотрел на нее, а затем, очнувшись и заметив его, улыбалась ему ласково. Хорошо это или отлично? Она целовала его, и не отстранялась от его объятий, но вот деток новых у них никак не получалось. Не специально, а как-то так — само по себе. Правда, Уля и не хотела пока никаких новых деток: слишком намаялась она со Спартаком, отдохнуть хотела. Аугуст ее понимал: она действительно выглядела сильно измотанной. Решили: пусть будет как будет.