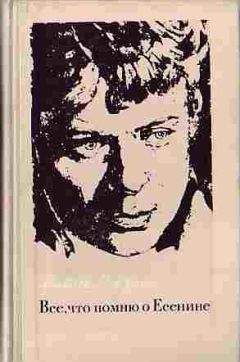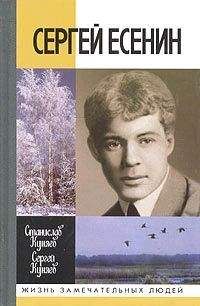Виталий Безруков - Есенин
— Врангеля, Ваня! — подсказал Наседкин, слышавший его похвальбу.
— Врангель! — Наташка прыснула от смеха, прикрыв ладонью рот. — Врешь ты все, Врангель!
— Да нет, правда, был такой барон Врангель. Белыми войсками командовал в Крыму. Иван не врет! Но привирает! — подшучивал над другом Наседкин.
— Привираешь, Ваня! — еще пуще залилась смехом Наташа.
— А хочешь, стихи свои почитаю? — предложил Иван, но, увидев, как Есенин осуждающе покачал головой, осекся: — Потом… Потом почитаю, когда провожать пойду.
— А не боишься? — лукаво спросила Наташка, глядя при этом не на Ивана, а на Есенина, будто ему предлагала проводить себя. — У нас чужаков не любят: могут ноги переломать! — Она улыбнулась Сергею, блеснув белыми зубами, но ее огромные серые глаза с расширенными зрачками оставались серьезными.
Расталкивая столпившихся в дверях баб с ребятишками, тяжело опираясь на суковатую палку, вошел дед:
— Где тут внучек мой? Сергунька где? — щурил он подслеповатые глаза. Его с почтением пропустили к столу.
— Здесь я, дедушка! Давай сюда! — обрадовался Есенин приходу родного деда. — Подвиньтесь, дайте дед сядет!
Когда дед протиснулся между гостями, Есенин налил ему в стакан вина, которого привез с собой в подарок женщинам.
— Выпей, дедуня! Винца сладкого! С приездом!
Дед трясущейся рукой осторожно, чтобы не расплескать, взял стакан и, чокнувшись с внуком, долго цедил вино, медленно запрокидывая голову. Капли вина потекли по его седой бороде. Когда дед поставил пустой стакан и вытер ладонью рот, Есенин поднял свою рюмку и громко произнес:
— За тебя, мой дед! Живи сто лет!.. — и выпил махом.
— Спасибо, внучек, — глаза у деда заслезились. — Да… уж мне девяносто… скоро в гроб! А тебе, Сергуха, чай, тоже много…
— Тридцать скоро… — улыбнулся деду Есенин.
— Ну-ну… Время! — Дед взял соленый огурец и стал жевать беззубым ртом. — Ты, Сергей, не коммунист? — неожиданно строго спросил дед, высасывая рассол из огурца. Есенин опешил от такого вопроса. Он отрицательно помотал головой и, потянувшись через стол, крикнул деду в тугое ухо:
— Нет! Дедуня! Не коммунист! Я сам по себе! Ну их на хрен!
Дед, довольный, затряс головой:
— Гоже, внучек! Гоже! Сестры комсомолками стали… туды их растуды… Хоть удавись! Косы пообрезали… Тьфу, гадость, прости господи.
— Везде сейчас так, — примирительно ответил Сергей, глядя на Катю.
— Да! А вчерась Шурка иконы выбросила… младшая-то, — все более распалялся дед, — Ленина повесила! Креста на колокольне больше нет! Вон, Прошка, — ткнул он пальцем в Прона Оглоблина, который о чем-то яростно спорил с Лабутей, — комиссар хренов, свалил напрочь! Одного, слава богу, крестом энтим пришибло… Наказал Господь!
— Как это… пришибло? — не понял Есенин.
— Прошка залез на колокольню, веревкой крест обвязал… А один тут комсомолец, Демьянкой звали, к седлу другой конец привязал, да сам верхом… Ну, и дернули… Крест свалился, да ентого комсомольца по башке… насмерть! Лошадь, слава богу, жива осталась, бок только оцарапало… Вот какая жись настала, Сергуха! Теперь и Богу помолиться негде! — Дед замотал головой и беззвучно засмеялся. — Я, слышь-ка, потихоньку в лес теперь хожу… осинам молюсь… может, сгодится.
Есенин встал и, потянувшись через стол, обнял и поцеловал деда: «Деда ты мой, деда! Давай еще выпьем!» Он опять налил ему вина в стакан. Дед, растроганный таким вниманием любимого внука, заплакал: «Ты меня прости, быват…» — Он долго рылся в кармане, отыскивая тряпицу, служившую ему носовым платком.
— Ты чего это? Про что? — громко спросил Есенин.
— Да маленького тебя… за озорство, бывало, нет-нет, да отстегаю, — виновато лепетал дед, шмыгая носом и утирая тряпицей глаза. — Помнитца, на драки тебя подначивал… Я ведь хотел, чтоб ты крепше был! Эх, Cepгyxa!.. Я ведь тебя более всех жалею! Я и в молитвах за тебя прошу: помоги, Господи, ему писать хорошо — на всю Россию!.. Ты веришь в себя? В свою душу?! Ась? — спросил он и приложил к уху ладонь, ожидая ответа.
— Верю — твердо ответил Есенин, ожидая, как повернет дальше дед свой вопрос.
— Вот и верь, сынок. До конца верь… Выходит, это дано тебе свыше, — и дед показал скрюченным, узловатым пальцем вверх. — Своей дорогой ступай… не сворачивай… раз хватает у тебя света-разума для людей. Стихи слагать… тут ум нужен… Ну, за тебя, внучек! — Дед опять осторожно, маленькими глотками, стал пить вино, для верности придерживая стакан двумя руками.
— Спасибо, дедушка, — прошептал Есенин, благодарно улыбнувшись деду. Сидящие рядом тоже с уважением подняли свои стаканы и рюмки:
— Удачи тебе, Сергей! За тебя. Сережка!
Дед допил вино, так же осторожно поставил стакан. Собрав ладонью со стола хлебные крошки, отправил их в рот. От выпитого глаза у деда стали голубоватыми, как у внука, и в них опять показались слезинки.
— Сергуха, чай, приезжай похоронить, быват… Ты не боись, домовину я сам сготовил… дубовую, и крест тоже… в сарае сеном завалил, чтоб не затерли.
— Отстань, отец! Чё ты привязался к Сергею? — Ишь, развел паникадило!.. — вмешался Александр Никитич на правах хозяина. — Умрешь — похороним. Не хуже людей. Слава богу, пожил свое, подивил народ!
Ему хотелось, чтобы Сергей общался с ним. Его прямо распирало от гордости за своего сына, известного на всю Россию поэта.
— Да, бывало, вся деревня гуляла, когда я товар распродавал. Всё было… — пытался было продолжить дед свой рассказ, но Александр Никитич махнул на него рукой: — Ну его, сынок! Ты вот что… Я ведь теперь в исполкоме делопроизводителем… хвастливо сообщил он Сергею —… кроме жалованья, дают тридцать фунтов муки.
— Что так мало? — разочарованно спросил Сергей.
— Так с хлебом-то теперь и у нас плохо — неурожай! — стал оправдываться отец.
— Он у нас еще и секретарь комитета бедноты, — добавила мать, присаживаясь рядом с отцом.
— Избрали, — небрежно кивнул на народ Александр Никитич.
— Секретарь, а толку-то! Людям по два-три пуда муки даешь, а мы всего тридцать фунтов получаем! — обиженно поджала губы мать. Отец даже растерялся от ее язвительного тона и от правды, которую жена не постеснялась ляпнуть при людях и главное — при сыне, перед которым ему хотелось выглядеть значительным.
— Дура! — незлобно ругнулся он. — Мы получаем за мою работу в волости, у нас есть корова и лошадь… была… поэтому мы считаемся середняками. А комбед хлеб дает многодетным, беднякам и безлошадным…
— А где лошадь-то у вас? — сменил тему Есенин, пожалев самолюбие отца, и тот, благодарно улыбнувшись сыну за понимание, махнул рукой: