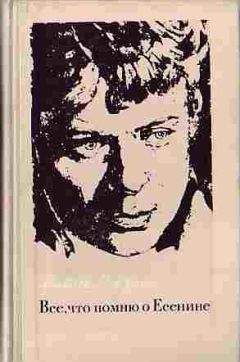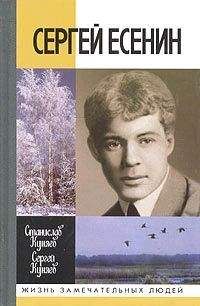Виталий Безруков - Есенин
— Не осрамись, Сергей! Давно ведь не косил! — стал весело подначивать Наседкин.
— Да ты что? Он каждое лето, если приезжал в сенокос, всегда с отцом косил, — заступилась Катя за брата.
Когда мужики, попыхивая, зажатыми в зубах папиросами, встали в ряд и взяли косы, дед перекрестил внука:
— Ну, с богом, Сергунька! Вали! В рот им дышло! Ведь это я учил тебя косой махать!
Косить начали не спеша, вроде вразвалку, но уже после одного захода рубашка у Есенина прилипла к спине. Но Сергей, изредка оглядываясь на деда, азартно улыбался ему. Он не отставал от мужиков ни на шаг. Единым взмахом взлетали косы и со свистом вонзались в густую траву. Р-а-з! Р-а-з! Р-а-з! И ровные валки складывались в сторону. Бабы бросались граблями ворошить их. За Есениным увязалась все та же ядреная бойкая девка, не уступив его валок никому. Она с потаенной страстью оглядывала его ладную фигуру, крепкие плечи и улыбалась своим озорным мыслям. Сенокос — самая радостная пора из всех, что издревле выпали на горькую мужицкую долю. И эта работа не из легких! Помахай-ка косой с рассвета дотемна! Помечи-ка огромные охапки сена в высокие стога!.. И все равно эта пора, как праздник, веселит душу тем, кто с детства привык к крестьянскому труду. Ступая — шаг в шаг — с косарями, глубоко вдыхая настоянный хмелем и диким медом цветущих трав воздух, хвастаясь перед мужиками щедростью своей силы и ловкостью, любуясь в минуты «передыха» раздольем земли русской, прислушиваясь к голосам женским, Есенин обмирал от счастья душой. В голове складывались стихи, которые скоро лягут на бумагу, как эти «травяные строчки».
Ах, перо — не грабли, ох, коса — не ручка,
Но косой выводят строчки хоть куда.
Под весенним солнцем, под весенней тучкой
Их читают люди всякие года…
— Все, шабаш! Стой, Серега! Уморил всех! — притворно взмолился Прон. Лабутя с готовностью подхватил лесть:
— Ништо ему! Отъелся по Америкам!.. Прет, как бык! — Он бросил косу и завалился на траву.
Все остановились и обступили Есенина. Подошел дед, поклонился в пояс: «Спасибо, Сергушок! Помнишь мою науку… не осрамил старика! Спаси Христос за помощь!»
— Ладно, дед, разве это помощь? Давайте еще рядок пройдем! — проговорил Есенин, запыхавшись. Но бабы враз загалдели:
— Да полно вам! Ухайдакаете поэта! Вон он в мыле весь… Рубаха промокла…
Есенин стал снимать прилипшую к телу рубашку. Девка, что раскидывала за ним траву, бросилась помогать — будто нечаянно прижалась грудью своей к его обнаженному телу. Пристально поглядел на нее Есенин, и сердце полыхнуло желанием.
— Езжай, Сергей, — сказала она красивым, грудным голосом, — мать, чай, заждалась! — Она бережно подала Кате рубашку и отошла легкой походкой, чувствуя спиной насмешливые взгляды односельчан.
— Ладно! Язжай, Сергей! Подмогнул нам, и хорошо! — Мужики услужливо бросили в телегу охапку травы.
— Ну, я не прощаюсь, вечером, как закончите, прошу к нам в дом! Отпразднуем мой приезд и поговорим про житье-бытье, — сказал Есенин, залезая в телегу.
— Спасибо за приглашение! Спасибо за честь! Непременно заглянем! — вразнобой стали благодарить его мужики, снимая фуражки и кланяясь. — Придем! А как же, обязательно! — кричали они вслед.
Есенин упал в траву навзничь, раскинув руки, и унесся взглядом своих синих глаз в синее поднебесье. Он чувствовал, как тело насыщается молодой силой от травы, от воздуха, от ощущения, что он наконец дома, на родной земле. Европа, Америка… Дункан… уж не сон ли это был? Длинный, мучительный сон, от которого и рад бы проснуться, но не можешь, пока не доглядишь до конца.
Новый дом, отстроенный Александром Никитичем после пожара, был небольшой, но уютный. Еще не выветрился запах сосновых бревен. В красном углу, под образами, как самого почетного гостя, во главу стола усадили Сергея. Рядом Катя, Наседкин и Приблудный. Напротив отец, Прон, Лабутя с женой и другие друзья и родственники Есениных. Мать, празднично приодетая по случаю приезда сына, счастливая, хлопочет, подавая на стол. Веселье было в полном разгаре, когда гостей потянуло на песню. Прон Оглоблин, взмахнув рукой, запел басом:
Вниз по Волге реке
С Нижня Новгорода
Снаряжен стружек
Как стрела летит.
Все разом подхватывают, кто во что горазд. В дверях, в открытых окнах и сенях набились односельчане — поглядеть, как повелось в деревнях, на чужое веселье, поглазеть на знаменитого земляка, послушать всякие новости.
Отец, больше опьянев от радости встречи, чем от самогонки, пытается перекричать застолье:
— Сергуха! Сынок ты мой родимый! Кровинушка моя!.. Мать! Татьяна! Глянь, какой он у нас… вылитый мериканец!
— Отстань! — отмахнулась мать. — Некогда мне, не успеваю подавать! Как из голодного края все! Картошки, огурцов соленых не едали…
Слегка захмелевший Есенин снисходительно улыбался, глядя на отца и мать. Он согласно кивал, если его о чем-то спрашивали, одновременно подпевая песню. Изредка он поглядывал на девушку, сидящую рядом с Иваном Приблудным. Это была та самая, что шла за ним на сенокосе. Теперь она была в кофте вишневого цвета, облегавшей плечи и грудь, а талия, стянутая поясом черной юбки, была удивительно тонкой. Она скромно сидела, ловя каждый взгляд Есенина, смущенно теребя длинную косу. Когда их взгляды встречались, девка хмурилась, и щеки заливались румянцем.
— Чья такая? — не выдержал и шепотом спросил сестру Есенин, теряясь в догадках.
— Наташка Сурова, — наклонясь к брату, ответила Катя.
— Наташка Сурова? — изумился Сергей. Он вспомнил все. Это ее, Наташку, тетка Пелагея прочила ему в невесты! Вот она, оказывается, какая… Действительно, сама чистота! А глаза наивные и испуганно-доверчивые… как у олененка!
Наташа невнимательно слушала, как подвыпивший Приблудный важничал перед ней: «Это щас я поэтом стал, как Сергей ваш… а был у Буденного… Да! Помню, Перекоп брали… Я впереди всех на тачанке… Д-я-я-е-е-ешь! Уж мы его и так и разэдак!»
— Кого разэдак-то, а? — усмехнулась Наташка.
— Ну… этого… как его? — замялся сбитый неожиданным вопросом Иван.
— Врангеля, Ваня! — подсказал Наседкин, слышавший его похвальбу.
— Врангель! — Наташка прыснула от смеха, прикрыв ладонью рот. — Врешь ты все, Врангель!
— Да нет, правда, был такой барон Врангель. Белыми войсками командовал в Крыму. Иван не врет! Но привирает! — подшучивал над другом Наседкин.
— Привираешь, Ваня! — еще пуще залилась смехом Наташа.
— А хочешь, стихи свои почитаю? — предложил Иван, но, увидев, как Есенин осуждающе покачал головой, осекся: — Потом… Потом почитаю, когда провожать пойду.