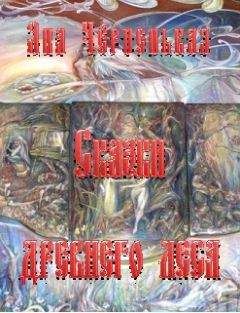Дуглас Кеннеди - Момент
Если арест все-таки случится и я не вернусь к назначенному сроку… Петра будет в панике. Даже если она позвонит в посольство, что это даст?
Я достал свой паспорт и как раз раздумывал, стоит ли оставить Петре записку, объясняя, что делать, если я не вернусь к вечеру, когда внизу послышалось движение, вернее, загремели кастрюли и сковородки, и голос Аластера произнес «О, черт!», когда одна из них упала на пол. И тут меня осенило: несмотря на показную агрессивность и экстравагантность, он был на редкость порядочным человеком, которому я мог доверять.
Так что, подхватив рюкзак, письмо для Юдит и записку с адресом, я спустился вниз. Аластер на коленях стоял возле плиты, сметая остатки омлета в мусорное ведро.
— Чертов рохля, comme d'habitude[87]. С наркотой я был гораздо ловчее.
— Но, кажется, на твоей работе это не отразилось, — сказал я, кивая на три полотна, которые уже были в стадии завершения.
Хотя они напоминали геометрические исследования в разнообразных оттенках синевы, над которыми он работал до нападения, их нельзя было назвать репродукциями. Наоборот, в этих новых картинах была особая текучесть и сложная глубина цвета и перспективы, и это был полный отход от прежнего стиля. Ушли в прошлое монотонные цвета и четкие линии. Здесь были тревожные и в то же время очень уверенные мазки, передающие богатство форм и оттенков переменчивой абстракции. Аластер увидел, что я изучаю его работы, хотя правильнее было бы сказать, что я «тонул в них», настолько глубоким было их воздействие на меня.
— Одобряешь? — спросил он.
— Не то слово.
— Кофе? — предложил он.
— Пожалуй.
— Я только что видел, как уходила Петра. Что-то не так у вас?
— Давай выпьем кофе и покурим.
— Нет проблем.
Пока варился кофе, я закурил «Голуаз» Аластера.
— Ты сегодня очень рано встал, — заметил я.
— Всю ночь работал. Последние несколько дней пашу как вол. Кстати, это реакция на некоторые изменения в моей жизни.
— Что-нибудь серьезное?
— Вот семантический вопрос для американского писателя: считать ли серьезным разрыв отношений?
— С Мехметом?
Аластер кивнул.
— Но я думал, что после той небольшой размолвки все вроде бы вернулось на круги своя.
— Так и было. Но тут его жена оказалась, как выражаются в викторианских мюзик-холлах, «в интересном положении», и он считает, что больше не может рисковать, встречаясь со мной.
— Когда он сказал тебе об этом?
— Два дня назад.
— Мог бы рассказать мне.
— И нарушить кодекс стоицизма Фитцсимонс-Росса, которому веками следуют поколения несгибаемых протестантов? Я знал, что это случится рано или поздно. Но, как всегда бывает, когда понимаешь, что печальное событие не за горами, стараешься не думать о неизбежности. Еще не так давно, когда у нас произошла небольшая стычка и Мехмет все-таки вернулся через несколько дней, я знал, что дело близится к развязке. Если ты спросишь, что я чувствую, я покончу с собой.
— Что, все так плохо, да?
— Никогда не узнаешь свои настоящие чувства к человеку, пока не потеряешь его. Вспомни тех, кто десятилетиями живет в несчастливом браке и чувствует себя в ловушке. Потом ненавистный супруг умирает, и оставшийся безутешен в своем горе.
— Но есть и те, кто расходится, а потом обнаруживает, что потерял любовь всей своей жизни…
— Я не прогонял Мехмета.
— Я знаю.
— Черт, меня это взбудоражило больше, чем я ожидал. Но…
Когда он встал, чтобы снять с огня кофе, в его глазах были слезы, и он украдкой смахнул их рукавом рубашки. Потом, глубоко вздохнув, он повернулся ко мне и сказал:
— А теперь все, хватит об этом.
Я кивнул и бросил взгляд на часы, заметив, что уже начало восьмого.
— Куда-то торопишься?
— Могу я довериться тебе, Аластер? Это очень личное дело, которое нельзя обсуждать ни с кем, кроме меня.
Он не задумываясь ответил:
— Конечно!
По его ясному взгляду я понял, что он искренен. Поэтому рассказал ему, что собираюсь в Восточный Берлин, и объяснил цель своей поездки. Я рассказал историю ареста Петры, ее кошмарного заточения, самоубийства мужа, рассказал и о том, что ее ребенка усыновила семья из Штази. Аластер слушал меня молча. Когда я закончил говорить, он потянулся за сигаретами, закурил и какое-то время смотрел вдаль.
— Никогда не знаешь, какой тяжелый груз несут с собой по жизни люди, верно? То-то я все думал, что Петра печальна, но связывал это с несчастной любовью в прошлом или с привычной эмигрантской тоской. Но то, что ей пришлось пережить… в голове не укладывается. Не бойся, я ни словом не обмолвлюсь ни одной живой душе, тем более Петре. И спасибо тебе, что доверил мне все это.
— У меня нет никаких контактов в американском посольстве, и я, конечно, не хочу звонить на «Радио „Свобода“», поскольку это может навредить Петре. Но если я не вернусь домой к восьми вечера…
— Я успокою Петру. И обязательно найду способ передать короткую информацию дежурному офицеру — так, кажется, их называют? — американского консульства. Но ты все-таки постарайся вернуться сам вместе с фотографиями.
Спустя полчаса я вышел из метро на станции «Кохштрассе», прошел мимо таблички с надписью «Вы покидаете американский сектор» и направился к пропускному пункту. Когда я подошел к воротам, охранник вопросительно взглянул на меня. Я кивнул, давая понять, что хочу перейти границу. Он кивнул в ответ. Подняли шлагбаум. Я прошел. В то утро я был единственным посетителем. Офицер Volkspolizei, сидевший в будке, взял у меня паспорт и задал привычные вопросы: «Цель визита?» («Туризм»), «Желаете что-то задекларировать?» (я покачал головой), «Вы знаете, что это однодневная виза и вы должны вернуться через этот, и только через этот чекпойнт до одиннадцати часов пятидесяти девяти минут сегодняшнего вечера?» («Да, я знаю».) Потом он взял с меня обязательный взнос в размере тридцати дойчемарок. Деньги лежали наготове у меня в кармане, и, передав их, я получил взамен тридцать восточногерманских марок с чеканным профилем Ленина на банкнотах. Наконец он задал мне последний вопрос:
— Вы имеете при себе товары, которые планируете оставить в ГДР?
На самом деле в моем рюкзаке лежали пять пачек «Кэмел», шесть плиток шоколада «Риттер» и кофе, но я решил рискнуть и просто сказал «Нет». Офицер внимательно посмотрел на меня, но не стал развивать эту тему. Кивнув в сторону Востока, он разрешил мне пройти.
Следующий пост. Очередная проверка паспорта — и наконец шлагбаум был поднят.
Я направился по пустынной Фридрихштрассе к станции метро «Штадтмитте». Утро было ясное, солнечное, почти теплое. Щурясь на солнце, я оглядывал сонный квартал, еще не проснувшийся навстречу наступающему дню. Ни людей, ни машин, никаких признаков жизни. Станция метро была прямо передо мной. Я спустился по узкой лестнице в подземный мир резкого электрического света, пропахший мощным дезинфицирующим средством, купил билет и стал ждать поезда до станции «Александерплац», стоя на платформе с еще двумя пассажирами. Молодая пара, парень с девушкой лет двадцати, оба в нейлоновых куртках — он в серой, она в грязно-коричневой. Они неловко держались за руки, иногда улыбались, встречаясь взглядами, но выглядели робкими и застенчивыми. Может, они провели первую ночь вместе? Может, их любовь только-только зарождается и они еще не знают, как поступить с ней? У парня были длинные, немного сальные волосы и усы, пробившиеся на месте вчерашнего пушка. Девушка была миловидной, но уже слегка тяжеловатой в бедрах. Все пять минут, что мы стояли в ожидании поезда, они обменивались смущенными и в то же время нежными взглядами, но не произнесли ни слова. Так и есть, новоиспеченные влюбленные в стерильной преисподней восточногерманской подземки.