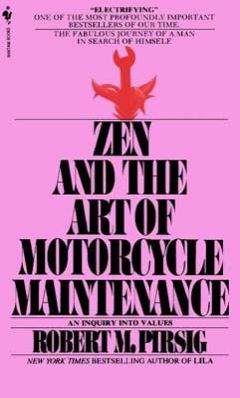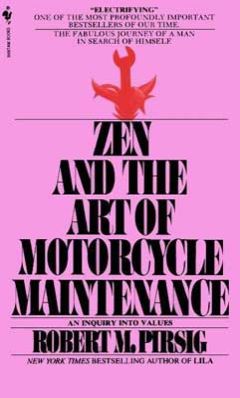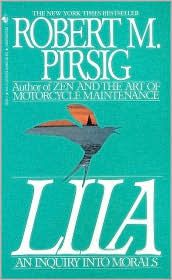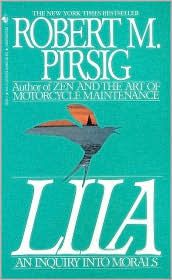Роберт Пирсиг - Дзен и исскуство ухода за мотоциклом
Вот я вижу впереди белое сияние и яркую вывеску заправочной станции на другом конце улицы.
Она открыта. Мы останавливаемся и заходим. Служитель, которому на вид столько же, сколько и Крису, странно смотрит на нас. Не знает он ни о каком мотеле. Я иду к телефонному справочнику, нахожу несколько и читаю ему адреса, а он пытается рассказать, как до них добраться, но у него плохо получается. Я звоню в мотель, который, как он объясняет, ближе всех, заказываю комнату и переспрашиваю, как доехать.
При таком дожде и уличной темноте даже зная, куда ехать, мы почти промахиваемся. Они выключили свет, и когда я записываюсь в книгу постояльцев, не произносится ни слова.
Комната — остаток от серости тридцатых годов, грязная, отремонтированная человеком, не знавшим столярного дела, но сухая, в ней есть обогреватель и постели, и нам больше ничего не нужно. Я включаю обогреватель, мы садимся перед ним, вскоре дрожь и озноб прекращаются, и сырость начинает выходить из наших костей.
Крис не поднимает глаз, а просто смотрит в решетку нагревателя в углу. Через некоторое время произносит:
— Когда мы поедем обратно домой?
Провал.
— Когда доберемся до Сан-Франциско, — отвечаю я. — А что?
— Я так устал просто сидеть и… — Его голос замирает.
— И что?
— И… не знаю. Просто сидеть… как будто мы по-настоящему никуда не едем.
— Куда мы должны ехать?
— Не знаю. Откуда я знаю?
— И я не знаю, — отвечаю я.
— Ну а почему ты не знаешь? — спрашивает он. И начинает плакать.
— В чем дело, Крис? — говорю я.
Он не отвечает. Потом опускает голову на руки и начинает раскачиваться взад и вперед. То, как он это делает, вызывает во мне жуткое чувство. Потом он останавливается и говорит:
— Когда я был маленьким, было по-другому.
— Как?
— Не знаю. Мы всегда все делали. Что я хотел делать. Теперь я ничего не хочу делать.
Он продолжает так же жутко раскачиваться, спрятав лицо в руках, а я не знаю, что делать. Странное качающееся движение, не от мира сего, самозакрытие зародыша, которое как бы отторгает меня, отторгает все. Возврат в то место, о котором я ничего не знаю… дно океана.
Теперь я знаю, где видел это раньше, — на полу больницы, вот где.
Я вообще не знаю, что мне делать.
Немного спустя мы укладываемся в постели, и я пытаюсь заснуть.
Потом спрашиваю Криса:
— А перед тем, как мы уехали из Чикаго, было лучше?
— Да.
— Как? Что ты помнишь?
— Было весело.
— Весело?
— Да, — говорит он и затихает. Потом произносит:
— Помнишь, как мы поехали искать кровати?
— Это было весело?
— Конечно, — отвечает он и затихает надолго. Потом говорит:
— Ты разве не помнишь? Ты заставлял меня искать дорогу домой… Ты раньше играл с нами в игры. Ты рассказывал нам разные истории, и мы ездили делать разные вещи, а теперь ты не делаешь ничего.
— Делаю.
— Нет, не делаешь! Ты просто сидишь и смотришь, и ничего не делаешь!
Я слышу, как он опять начинает плакать.
Дождь снаружи шквалами налетает на окно, и я чувствую, как на меня опускается что-то тяжелое — какая-то махина. Он плачет по нему. Это по нему он скучает. Вот о чем весь этот сон. Во сне…
Кажется, очень долго я лежу и слушаю потрескивание обогревателя, шум ветра и дождя о крышу и стекло. Потом дождь замирает вдали, и не остается ничего, кроме нескольких капель, падающих с деревьев при случайном порыве ветра.
31
Утром я останавливаюсь перед зеленым слизнем на земле. Около шести дюймов в длину, три четверти дюйма в ширину, мягкий и почти резиновый, покрытый слизью, как какой-нибудь внутренний орган животного.
Все вокруг меня влажно, сыро, туманно и холодно, но достаточно ясно, и я вижу, что наш мотель стоит на склоне с яблоневыми деревьями внизу; под ними — трава и мелкие кустики, покрытые росой или еще не сошедшим дождем. Я вижу еще одного слизня, потом еще — Боже мой, да все это место просто кишит ими.
Когда Крис выходит на улицу, я показываю ему одного: он медленно, как улитка, движется по листу. Крису нечего сказать.
Мы уезжаем и завтракаем в придорожном городке под названием Веотт; там я замечаю, что Крис по-прежнему в отдаленном расположении духа. При таком настроении смотят в сторону, не разговарирают, и я оставляю его в покое.
Дальше, в Леггетте, мы видим пруд с утками для туристов, покупаем «Крекер-Джеков» и кидаем их уткам, и он проделывает это с таким несчастным видом, какого мне никогда не приходилось наблюдать раньше. Потом мы выезжаем на извилистую дорогу, ведущую по прибрежному хребту и вдруг попадаем в плотный туман. Температура падает, и я знаю, что мы — опять у моря.
Когда туман поднимается, мы видим океан с высокого утеса, такой распростертый, синий и далекий. Пока мы едем, мне становится холодно, пронизывающе холодно.
Мы останавливаемся, я вытаскиваю куртку и надеваю. Вижу, что Крис подошел слишком близко к краю утеса. До камней внизу — по меньшей мере сотня футов. Слишком близко!
— КРИС! — ору я. Он не отвечает.
Я поднимаюсь, хватаю его за рубашку и стаскиваю вниз.
— Не делай так, — говорю я.
Он смотрит на меня со странным прищуром.
Я вытаскиваю его одежду. Он берет, но волынит и не одевается.
Торопить его нет смысла. Если он в таком настроении, что хочет выжидать, то пускай выжидает.
Ждет. Прохолит десять минут, потом пятнадцать.
У нас будут соревнования по выжиданию.
Через полчаса на холодном ветру с океана он спрашивает:
— Куда мы едем?
— Сейчас — на юг, вдоль побережья.
— Поехали назад.
— Куда?
— Где теплее.
Лишних сотню миль.
— Нам сейчас нужно ехать на юг, — говорю я.
— Зачем?
— Потому что ехать назад — слишком большой крюк.
— Поехали назад.
— Нет. Надень теплое.
Он не надевает и просто сидит на земле.
Еще через пятнадцать минут произносит:
— Поехали обратно.
— Крис, не ты ведешь мотоцикл. Я его веду. Мы едем на юг.
— Зачем?
— Потому что слишком далеко и потому что я так сказал.
— А почему нам тогда просто не поехать обратно?
Злость достает меня:
— Ты ведь не хочешь на самом деле это узнать, да?
— Я хочу обратно. Ты мне просто скажи, почему мы не можем поехать обратно.
Я уже умерил свою несдержанность.
— На самом деле, ты не хочешь возвращаться, Крис. На самом деле ты добиваешься только одного — разозлить меня. Еще немного — и у тебя это получится!
Страх в глазах. Вот чего он хотел. Ненавидеть меня. Потому что я — не он.
Крис тоскливо смотрит в землю и надевает теплую одежду. Потом мы снова садимся на машину и едем вдоль побережья.
Я могу имитировать отца, который, как предполагается, у него есть, но подсознательно, на уровне Качества, он видит меня насквозь и знает, что его настоящего отца здесь нет. Во всех этих разговорах о Шатокуа было больше чем чуть-чуть лжи. Снова и снова высказывалось пожелание уничтожать дуальность субъекта-объекта, когда самая большая дуальность, дуальность между мной и им, осталась обойденной. Ум разделенный и направленный против самого себя.
Но кто же это сделал? Не я же сам. И переделать никак нельзя… Я продолжаю спрашивать себя, насколько глубоко до дна того океана вон там…
Я — еретик, покаявшийся и тем в глазах всех остальных спасший свою душу. В глазах всех, кроме одного, который глубоко внутри знает, что спас я только собственную шкуру.
Я выживаю главным образом благодаря тому, что угождаю другим. Делается это, чтобы выкарабкаться, вычисляется, чего они хотят, а потом говорится то, чего им хочется, мастерски и оригинально, как только можно, и если убедишь их, то выкарабкаешься. Если б я на него не наорал, то по-прежнему оставался бы там; он же был верен тому, во что верил, до самого конца. Вот в чем разница между нами, и Крис это знает. И вот почему иногда мне кажется, что он — реальность, а я — призрак.
Мы теперь — на побережье округа Мендосино, и здесь все дико, прекрасно и открыто. Холмы, в основном, покрыты травой, но под прикрытием скал и в горных складках растут странные текучие кустарники, изваянные постоянными ветрами с океана. Мы проезжаем мимо старых деревянных заборов, поседевших от времени. Вдалеке — старая, избитая непогодой серая ферма. Как можно здесь что-то разводить? Забор во многих местах сломан. Нищета.
Там, где дорога начинает опускаться с высоких утесов к берегу, мы останавливаемся отдохнуть. Когда я выключаю мотор, Крис спрашивает:
— Для чего мы здесь остановились?
— Я устал.