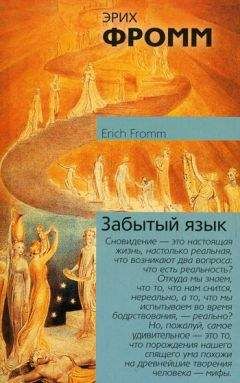Эрих Кош - Избранное
— Хорош! — командовал старик. — Подкладывайте под него валёк и шесты. Готово. Теперь капитана Стевана черед.
Самого Капитана нигде не было видно. Однажды только приезжему показалось, будто мимо него растрепанной, обезумевшей курицей, размахивая руками, пронеслась его жена. Яростное гудение моря ворвалось в минутное затишье.
— Ишь наддает! — заметил кто-то.
— До рассвета еще наддаст.
Толпа двинулась, словно в ратный поход, с шестами, подпорками, вальками и веслами на плечах. Женщины и дети — нагруженные канатами и банками с маслом для смазывания вальков. Двое парней стащили с себя рубахи. В темноте белели их обнаженные спины.
— Куда теперь?
— К капитанскому баркасу. Снимать с якоря и вытаскивать.
Двое парней в белых подштанниках спускались к морю. Их загорелые лица и босые ступни растворились в темноте, и потому казалось, что они, подобно обезглавленным мученикам со старинных икон, реют в воздухе, не касаясь земли. Первый, словно Христос, вошел в воду и зашагал по вспененным валам. Но они накрыли его с головой, оторвали от каната, за который он держался, понесли к берегу и вышвырнули на песок под ноги людей. У второго расчет был точнее: зайдя в море под схлынувший вал, он успел уплыть от нового наката. Кто-то зажег лампочку от аккумулятора и пучком света выхватил из темноты баркас — парень был уже там, удерживая весла в застывшем взмахе тонких стрекозиных крыльев.
Вдоль белого корабельного каната вытянулись цепью люди, женщины и дети стояли наготове с вальками в руках.
— Давай! Отпускай якорь! — крикнул старик. — Греби! Тащи!
Пригнувшись к канату и упираясь ногами в зыбкий песок, люди дружно рванули, но сразу же откатились назад, едва не упустив конец. Баркас вознесся на гребне волны вставшим на дыбы скакуном.
— Пошла! — выдохнули люди, снова налегая на канат. Вдруг что-то отпустило натянутый конец, и все полетели вперед, едва не попадав на землю; послышался удар и треск, можно было подумать, что баркас разлетелся в куски.
— Валёк! — крикнул кто-то. — Скорее второй!
— Тащи, тащи! Давай, пока волна не догнала.
Старик тоже схватился за конец, случайно придавив и чуть не размозжив руку приезжего своей заскорузлой могучей ладонью.
Люди глубоко дышали, вбирая воздух полной грудью. Посветлело. На песчаном откосе недоступный волнам, перевернутой на бок гигантской рыбой, вынесенной на сушу, в чешуе прилипших водорослей лежал капитанский баркас. Ууу-уу! — гудели море и воздух ночи, как бы наполненный невидимыми огромными черными птицами, — взмывая тяжелыми крыльями, птицы носились кругами вдогонку друг за другом.
— Дальше пошли! — командовал старик.
На берег вытащили уже четыре или пять лодок. Одна сандалия у приезжего застряла где-то в песке. Он скинул и вторую, оставшись босым, как и все. Под ударами волн сотрясался и вздрагивал песчаный берег, и кровли домов, казалось, трепетали и ходили ходуном, будто древко паруса. В толпе смешались женщины, дети, мужчины, старики и старухи, тоже выползшие из домов, чтобы оказать при надобности помощь. Взвизгнет и заскулит подвернувшаяся под ноги собака, кто-то громко выругается в ответ.
— Вальки принесли? — спрашивал старик. — Давайте, женщины, смазывайте их маслом.
— Тащите канаты. Приступим.
— Очередь лодки деда Томы, — промолвил кто-то. — Последней.
— Посторонись! — прокричал старик столпившимся на берегу.
— Сейчас самое опасное будет, — проговорил кто-то приезжему в ухо. Судя по голосу, это был благоразумный бакалейщик. — У старика баркас тяжелый. Если вырвется валек и попадет в кого-нибудь, убьет на месте.
— А ну, тащи!
Снова взялись за канат. Обернувшись, он увидел белого, как ангел, человека, стремительно летевшего к берегу верхом на черной морде гигантского кита. Баркас с треском приземлился точно на подставленные жерди и вальки. Потащили. Новый накат волны, поддав в корму, вынес баркас еще дальше на песчаную отмель.
Все лодки вытащены на сушу и спасены. Можно сесть и отдохнуть.
Светало. Над западным краем морского простора очистилось небо; казалось, буря перемешала за ночь части света и теперь оттуда надо было ждать прихода нового дня. Бледное отражение зари разлилось по зазубренным вершинам горного хребта. Ночь отделялась от света. И, отступая перед нашествием утра, рассеивались сгустки тьмы, большими черными птицами уплывая за горизонт. В мерцании занимавшегося дня открылась песчаная отмель, на которой они собрались, и вскоре из мутного марева за их спинами, еще не сбросив сонную негу с опущенных век, проступили бледные лики домов с закрытыми ставнями. И наконец люди увидели и самих себя.
Они сидели полукругом, в чинном порядке, словно перед объективом фотоаппарата: в рубахах, бело-голубых полосатых майках, в синих холщовых рыбацких штанах, подперев головы руками или прислонясь к соседскому плечу. Покончив с делом, в темноте незаметно разошлись по домам женщины и старухи, боясь показаться людям на глаза в полуодетом виде. За ними разбрелись и сонные ребятишки; на полдороге к дому сон свалил собак. И только мальчики постарше, вступившие на путь немногословной и суровой школы мужественности, пристроились по краям полукруга, преданно глядя в лицо старика, чья высокая фигура выделялась в центре.
С десяток больших и маленьких лодок лежали бок о бок на песке, как выловленная сетями рыба. И точно двое утопающих, только что спасенных от погибели, еще две маленькие лодчонки покоились на отмели особняком.
Кто-то чиркнул спичкой, защищая пламя от ветра ладонью, и прикурил сигарету. Другой потянулся тоже к огоньку, и вокруг распространились успокоительный запах дешевого табака и тепло безыскусной человечности. Облака над ними расслоились, прорвались, и в образовавшийся зазор проглянуло солнце. Ярче заиграли краски: синие и желтые.
На припеке струйки пара стали подниматься от одежды сидящих полукругом людей, а потом от песка возле них. И сразу же легкой, невесомой дымкой заволокло все вокруг, как будто заклубилась, вскипев, прибрежная отмель под ногами. Старик опустил на колено приезжего свою могучую мозолистую руку и тут ее и оставил лежать. На его лохматых, взъерошенных бровях и седых обвисших усах блестели капли пота и морских брызг.
Какая-то женщина вынесла из дома поднос со стопками и бутылку ракии.
XIXНо погода только подразнила кратким улучшением. Облака затянули просвет, образовавшийся было с восходом солнца, и сирокко, войдя окончательно в силу, разметал по берегу сор и скручивал, катая, обрывки старых разорванных сетей. Голодные и тощие, дворовые собаки слонялись, поджав хвосты, по пляжу. Все живое попряталось под крыши. Временами с неба падали тяжелые теплые дождевые капли, каменные лики домов, отсырев от морской пены, слезились запотевшими окнами.
Берег вокруг вытащенных лодок напоминал поле битвы. В беспорядке валялись катыши, вальки, весла, паруса, доски, черпаки для воды и всякая прочая лодочная справа. Старый Тома подвел под свой баркас подпорки, и тот напоминал теперь кузнечика, приготовившегося к прыжку. Капитан, решившийся высунуть нос из дому, заглянул на пляж мимоходом и, не обратив внимания на свой баркас, больше других пострадавший в ночной непогоде, направился куда-то вверх, вероятнее всего в заведение Миле.
Купанье в такую погоду не привлекало. После завтрака приезжий расположился в своей комнате за столиком заполнить бланки счетов, полученные от жены и ждущие отправления вот уже несколько дней. Отвечать ей самой он не собирался; промолчать, оставив без внимания ее наставления и упреки, казалось ему самым разумным.
История их отношений в действительности представляла собой историю непрерывной борьбы, порой открытой, но чаще затаенной и глухой, в которой в зависимости от обстоятельств то одна, то другая сторона получала временные преимущества. Так было с самого начала, когда, только познакомившись с ней, он вступил в единоборство, и вплоть до настоящего момента, когда он решительно взял инициативу в свои руки. В неостановимой карусели жизни они платили друг другу долги со страстью кровных врагов, хотя и сознавали, что в их тактической игре позиции и роли актеров независимо от собственной их воли заранее предопределены обстоятельствами и обществом, дирижирующим всем представлением в целом. Не раз менялись акценты и характер их интимных связей: страстное его стремление овладеть ее внутренним миром в растерянности отступало перед стеной загадочной холодности, отражавшей его попытки с бесстрастностью серебряной фольги. Напротив, ее потребность в его поддержке, опеке и покровительстве — в особенности перед другими и на людях — встречала с его стороны нервозную и грубую строптивость, продиктованную боязнью показаться сентиментальным и смешным. И так далее. Порой успехи на служебном поприще или в обществе внушали ему ощущение превосходства над ней. Зато ее беременность и роды грубо потеснили его в человеческих правах. Ему претила простонародная, плебейская гордость, с которой она носила ребенка, возводя свое состояние в некий исключительный, доселе невиданный и совершаемый одной ею подвиг, как и всецело поглотившая ее забота о младенце, словно бы подчеркивавшая, что с рождением ребенка он исполнил свою основную жизненную функцию. Потом с ревнивой страстью и коварством двух непримиримых, злейших соперников они боролись за любовь и привязанность ребенка до тех самых пор, пока девочка, обернувшаяся достаточно бесцветным и бесталанным существом, с внезапной жестокостью не покинула их обоих два года назад ради свершения главного ее, надо думать, жизненного назначения: а именно вступления в брак и произведения на свет собственного потомка ради биологического продления вида.