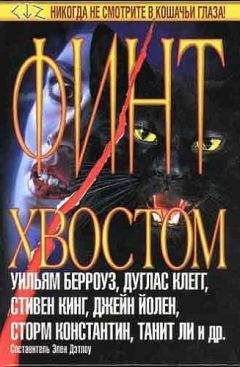Александр Терехов - Крысобой. Мемуары срочной службы
— Старшина, дай-ка мне этого бойца. И еще кого… Мне тут надо…
И отправился на свинарник.
— Та-ак, — сказал старшина, ласково оглядев нашу шатию-братию. Синхронно с «та-ак» каждый будто запах из кабинета с табличкой «Стоматолог» учуял — в животе начались некие бурные процессы.
— Сидоров, Гвоздик, выйдтя из строя — на санузел! — разорвался первый снаряд.
— Валиахметов на кухню, в овощерезку.
Мой смуглый сосед лишь невероятным усилием воли удержал готовую отчалить нижнюю челюсть…
— Пыжиков… хлоп твою мать совсем, философ хренов… и кто там за тобой? Курицын — в распоряжение генерала Седова. Ждать на улице. Разойдись!
Все дружно побежали в казарму, а я приторчал на месте, и не только затем, чтобы выкурить сигаретку, но и оттого, что фамилия моя Курицын и, как на грех, стоял я прямиком за Пыжиковым.
— Курицын, чего задумался? Пуговицу вон подбери — под ногами валяется, — это старшина мне. В самую морду.
«Ет не пуговица, товарищ прапорщик, это с вашей головы винтик выпал», — это я ему. Про себя, конечно, заталкивая мгновенно схваченную пуговицу в карман. Старшина долгим взором смерил Пыжикова и утопал в казарму. Снег мартовский, мягкий и вязковатый, вялая капель ныряет оспинками в снег, а я смотрю на Пыжикова и размышляю, что же это нас ожидает в перспективе.
Из казармы к нам уже летел командир первого взвода Шустряков, персонально ответственный за психическое состояние ефрейтора Пыжикова.
— Хрен ли ты выпендриваешься, хлоп тать, — заканючил он с кислой физиономией уже на подходе. — Будешь все время в трении — сплавишься. Очень хреново, да?
Пыжиков молчал.
— Так у вас еще лафа. Ты глянь, как салабоны живут. У тебя ведь все позади. Все ведь ваши деды рады и довольны. И ты так живи. Чуть-чуть осталось — и все будет, будет. Живи как все. Большинством все удобней.
— Да, — сказал Пыжиков, — особенно хоронить.
— Да ерунда, все ерунда, два года — чепуха. — Шустрякову было холодно, и ему хотелось в дежурку, где старшина уже расставил нарды. — Вернешься домой…
— Уже не вернусь, — сказал Пыжиков и пошел к лопате, воткнутой в сугроб, — это он чистил крышу.
Солнце опушило наконец-то нежный край облаков мандариновой оборкой, и с крыш закапало — тревожно, плавно, больно…
— Петро! Петя-а! — звал генерал в свинарнике.
— Вернешься, то есть как — нет? Не убьют же тебя здесь, — недоуменно протянул Шустряков и заключил: — Ну, ты, давай, держись… Еще в театре тебя посмотрим. А ты, Курицын, поговори с товарищем, ведь ты член бюро, ведь не дело так… — И побежал в казарму, отмахивая в сторону рукой, свободной от придерживания на голове великоватой пижонской фуры, разительно напоминавшей генеральскую.
— И правда, — сказал я. — Вот турник даже из казармы убрали через тебя. Качнуться негде.
Хлопнула форточка, и старшина высунул в весну свой чайник на три четверти.
— Курицын, вы чего еще здесь болтаетесь? — Это он нам, увернувшись от сонной капли с крыши.
«Меж ног болтается, таа-рищ праа-щик. Мы стоим». — Это я ему. Про себя, конечно.
Пыжиков доложил, что указаний от генерала не поступало и мы ждем.
Старшина пофырчал и скрылся обратно, тут из-за угла и высунулся «зилок» армейского образца.
— Сырая нынче весна, — мрачно сказал я. — Это по нашу душу.
От свинарника по узенькой тропке к нам уже косолапил генерал, оберегая от возможных брызг полы светло-голубой шинели. Свита, высоко выбрасывая ноги, лезла прямо по сугробам, что-то бодро и весело поясняя.
— Сынки, это вы ко мне? А? — замямлил генерал, проявляя твердую память.
— Так точно, товарищ генерал! — Пыжиков задрал плечи и выгнул живот колесом.
— Ну, тогда, сынки, полезайте туда, в кабину, а я на «Волге» — дорогу показывать. Мне тут надо переехать помочь немного, ага?
С таким лицом, как у генерала, нищие просили хлеба на паперти в глухую пору самодержавия и реакции…
— Зёма!
Водилой «зилка» оказался Сенька Швырин, мой корефан и зёма со второго взвода.
— Зёма, мля… — заревел Сеня, понукая свой избитый «зилок» вослед пестрой от весенней грязи «Волге» генерала, который то и дело поворачивал свой кумпол, дабы удостовериться, что мы еще не свернули с пути истинного в сторону женского общежития или пивбара «Саяны».
— Что ты… встреча… я, блин, не ожидал, мля. За… ачим эту мебель запросто, раз вместе. Что ты, зёма, вашу мать…
Я важно кивал, косясь на Пыжикова, — видал, дескать, какой у меня зёма есть?
Надо заметить, что перевозка мебели населению никогда не была мечтой моей жизни и от нескольких опытов на этом поприще у меня остались тяжкие воспоминания о тесных лестничных клетках, табличках «Лифт не работает», режущих плечо канатах, сопящих коллегах, обтирающих задницами стены, и истошных воплях: «И рэз!» — и отупелый, пошатывающийся спуск вниз, проткнутый насквозь мыслью о следующей вещи.
— Лишь бы не было пианино, — мудро сказал я.
— Что? А если бы лифт работал — ваше б было б зашибись. Копать мой лысый череп! — Глаза зёмы искрились, как весенняя проталина в нефтяных разводах.
Он бурно салютовал новостями: зашивон Чана отсидел на «губе» червонец за то, что слинял с наряда к бабе; новый взводный ведет себя скромно — службу понял; дембель далек, но неизбежен; калым хороший и на хавку хватает; подходит раз старшина и говорит: а я ему и… представляешь? Гы-гы… От ментов уже и бензином хрен откупишься, салабоны на службу забивают — вот на днях одного борзого гасили, а первую в гарнизоне шлюху Лильку нашли голую утром в спортгородке третьей роты пьяную вдрыб… И собирается он после армады педагогом в школу — мужиков теперь ценят, зарплату повысили. И два месяца отпуск.
— А ты куда, зёма, после армады? — вывел он меня из дремы.
Я осоловело повел башкой, как ворона, потерявшая во сне равновесие на суку, и вяло каркнул:
— В кооператив «Половые услуги», — и, скучающе обозрев прыгающий за окном пейзаж, ляпнул абы что: — А вот Пыжиков — актером у нас!
Зёма чуть не переехал трехэтажный дом на обочине.
— Кем?! — На дорогу он больше не смотрел: поворачивал свой рубильник либо на меня, либо на заерзавшего Пыжикова.
— В натуре? Не свистите, а то улетите!
— Не… зуб даю, — поклялся я.
— Бичи… в натуре?
Пыжиков наконец подтвердил:
— Я закончил Щукинское училище. Это театральное такое есть. В Москве.
— Я тащусь и хренею с вас, бичи. Веревки! И кого ж ты там играл?
Пыжиков сидел нахохлившийся, как умирающий голубь.
Голубь всегда умирает красиво.
Сожмется в комок, приподнимет что есть силы крылья и щурится в напряжении, будто хочет продохнуть что-то, тяжесть какую-то в груди рассосать. Знает, не взлетит и перышком не дрогнет. На мокрый асфальт, что под мраморной лапкой, даже не взглянет — только в себя. И дернется вдруг, взметнет крылья, ослепив белыми подкрылками, вывернется назад и замрет. Будто пуля его сорвала, как цветок с поля небес, будто вырвали его из полета, будто умер он в небе, и не асфальту его судить. Так и сожмет его костлявая рука, ослабив порыв, пригладив перья, открыв нешумный рынок для червячков и мошек. Но это уже будет не голубь, а немножко мяса и спички костей. Этого не жалко. По-настоящему можно жалеть только красивое. Остальное — не впечатляет.
— Актер, я тащусь. — Зёма фыркал, как яичница на сковородке. — На сцене раз прохреначил, и все соски твои — капец! Милый, а кого ж ты будешь играть после армады?
Пыжиков дернул левым плечом и сощурился, будто сунулся в заброшенный хате лицом в паутину.
— Не знаю. Никого не буду.
— А почему, зёма?
«Зилок» ревел, форсируя распутицу. В кабине была Африка. Зёма курил, и сизый дым вздымался к потолку. Зёма орал вопросы с радостным лицом. Я созерцал дорогу, молясь, чтобы малоподвижные пенсионеры не покидали свой очаг или не приближались к этой дороге. Пыжиков что-то тихо отвечал. Зёма с первого раза не всасывал — Пыжиков повторял еще раз, проще, а когда зёма еще раз раскрывал свою пасть: «А?!» — вообще кричал что-то несуразное:
— Мне ничего не надо. Я потом хочу… Может, в лес уехать… Рыбу ловить. Молчать.
— Чего?
— Не хочу ничего! — Мне казалось, что Пыжиков сейчас заплачет. — В лес хочу! Один!
— А?!
— В лес хочу!!! — кричал сумасшедший Пыжиков.
— У твоих там пасека? Мед — это клево, — понял наконец зёма, держа в перекрестье своих плутоватых глазок цвета фиалки заляпанную издержками весеннего таяния задницу генеральской «волжанки», показывающей нашей колеснице путь на Голгофу.
— Актер, слышь. — Зёма посерьезнел. Глаза его безупречно округлились, а голос был тих и вкрадчив. — А… а с бабами на сцене взаправду целуются? Или так себе?
«Волга» завернула во двор кирпичной девятиэтажки и тормознула. Мы — соответственно. Зёма вывалился из кабины и вопросительно сдвинул на затылок шапку.