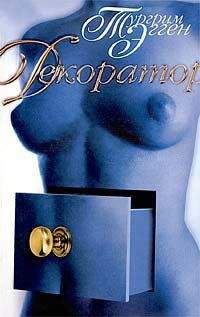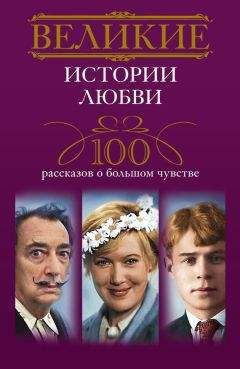Тургрим Эгген - Hermanas
Я заметил, что стал медленно соображать, мне просто-напросто требовалось больше времени для того, чтобы отвечать на вопросы. Я мог пойти вернуть кому-нибудь одолженную книгу и, пройдя четыре-пять кварталов, вспомнить, что забыл ее дома. Ассоциации и слова приходили с большим трудом, чем раньше. Кое-что было вызвано тем, что я постарел. Но не все. Они выжгли что-то из меня, и это что-то было неосязаемым и мимолетным, как оттенки цветов во сне.
Не могли бы они еще оказать мне услугу, удалив кусочек этой серой желеобразной массы, в котором я хранил все воспоминания о Миранде? Если не навсегда, то хотя бы на несколько месяцев? Но не думаю, что после этого я не стал бы слабоумным идиотом. Воспоминания глубоко проникли во все мои пять чувств, в глаза, в уши, в нос, в кончики пальцев… Вырвать их — все равно что с корнями выкорчевать взрослое баньяновое дерево. Целые кварталы рассыплются в прах.
Раз в месяц я должен был являться в районный полицейский участок и отвечать на вопросы. Такого порядка, чтобы отбыть наказание и забыть об этом, не существовало. Совершенно очевидно, что я продолжал входить в группу риска. Прежде всего их интересовало, с кем я общался, в особенности не встречался ли с иностранцами. Потом они спрашивали, пишу ли я. Поначалу отвечать на эти вопросы было легко: я ни с кем не встречался и ничего не писал.
Власти обязались найти мне работу, «соответствующую моей квалификации». Мне было безумно интересно, что за работа это могла быть. Подпустить меня к типографии было невозможно, но я по-прежнему состоял в СПДИК; если мыслить логически, они не могли исключить из своих рядов полностью реабилитированного человека, поэтому какие-то возможности в богатой и изобильной так называемой интеллектуальной жизни наверняка существуют. В какой-то момент я так страдал от скуки, что был готов делать что угодно.
В конце концов я получил работу, настоящую пенсионерскую работу. Я стал составителем кроссвордов. Человек, сочинявший еженедельные кроссворды для газеты «Хувентуд ребельде», недавно умер от болезни печени, и меня взяли на его место. За эту работу платили настоящую месячную зарплату. Я справлялся. Не хочу показаться нескромным, но справлялся очень хорошо.
Раз в неделю я ходил в редакцию и сдавал кроссворд, составленный дома. Там я встречался с политическим цензором. Меня всегда интересовало, в чем же должен провиниться человек, чтобы его назначили комиссаром, ответственным за идеологическое содержание кроссвордов. Но он был очень креативным и нередко приходил на встречу со списком «желательных» слов для следующего номера. Ведь важные юбилеи и народные кампании не лишним будет упомянуть и в кроссворде. Читатели могли выигрывать призы. Из разгадок ключевых пяти-шести слов нужно было сложить предложение. Читатель мог отправить его в редакцию и принять участие в розыгрыше билетов на балет или в драматический театр. Ключевое предложение всегда было известным революционным лозунгом типа «Вперед, к окончательной победе!». Такого рода диктат не оставлял места для творческих компромиссов. В остальном у меня была полная свобода. Все шло нормально, пока мои кроссворды не становились такими сложными и буржуазно-элитными, что товарищи начинали жаловаться. Например, слово «Заратустра» было безоговорочно выкинуто, несмотря на то что я долго бился над тем, как его вставить в кроссворд.
Но раз головоломка должна носить революционный характер, то так тому и быть. Мне нравятся задачи с условиями, и я научился даже в короткие слова вкладывать политический смысл. У нас было так много Прекрасных аббревиатур, от ЦРУ (2 по вертикали: «Преступники против человечества и мира во всем мире») до ГДР (19 по вертикали: «Гордый братский социалистический народ») и КЗР (11 по горизонтали: «Двигатель нашей революции»). Их хвалили как редактор, так и читатели. Взамен я тайно вставлял в кроссворды свой автограф и маленькую черную непокорность. С того времени, как Миранда рассказала мне историю о несчастном штукатуре и вездесущей букве «А» из имени «Ана», я стал одержим этим рассказом. Теперь пришла моя очередь. Так часто, как только мог, я пытался, не вызывая подозрения цензора, ввести в кроссворд слово «Миранда». А если это мне не удавалось, то всегда можно было впихнуть слово «Ана». У всех составителей кроссвордов должна быть возлюбленная по имени «Ана». Знала бы Миранда, что каждый кроссворд, еженедельно публиковавшийся в «Хувентуд ребельде», был памятником моей любви к ней. Не в штукатурке, а еще красивее — сотни тысяч людей писали ее имя каждую неделю, сначала осторожно, а потом все более уверенно.
Хуана предпочитала не говорить о Миранде. Но мало-помалу я кое-что выяснил. Хуана рассказала, что роман Миранды с Пабло продлился несколько недель и они перестали встречаться сразу после моего ареста. Это типично для Миранды, считала ее сестра: чтобы избавиться от мужчины, нужен другой мужчина. Она уже поступала так и раньше. Миранда никогда не была одна. Но после романа с Пабло — а сестры очень повеселились, сравнивая свои впечатления о нем, — она какое-то время была одинока. Одинока и несчастна.
После того как меня направили в «Агуас-Кларас», Миранда переехала обратно в отчий дом. Это пошло ей на пользу, а еще большую пользу это принесло Ирис. Внезапно рядом с ней появилось двое новых взрослых, которые баловали ее. Висенте любил внучку глубоко и самозабвенно и когда начал оправляться от инсульта — Ирис тогда было четыре года, — не хотел видеть никого, кроме нее. Он общался с ней на языке жестов, и она была единственной, кто его понимал.
После года давления и придирок со стороны полиции Миранда начала проявлять беспокойство. Она билась головой о стену. Она все чаще пропадала где-то по вечерам. Миранда много говорила об отъезде с Кубы, но она была одержима этим и раньше, так что Хуана не воспринимала ее слова серьезно. Хуана не знала, кто были типы, с которыми она уехала, даже не слышала их имен. Подготовку к таким операциям не афишируют. Но однажды вечером Миранда пришла к Хуане и сказала: «Я уезжаю в ночь на четверг из Кохимара».
«А что ты собираешься делать с Ирис?» — спросила Хуана. «Я собираюсь взять ее с собой», — сказала Миранда.
Между сестрами разгорелся спор. Хуана говорила, что это слишком опасно. Ирис в тот момент было всего два года. Она могла выпасть за борт, мог начаться шторм, береговая охрана могла потопить лодку… Миранде не позволили подвергнуть ребенка таким испытаниям. Взрослые вольны поступать, как им вздумается, но рисковать жизнью ребенка они не имели права. Это аморально. В конце концов Миранда одумалась. И сестры заключили договор. Хуана оставит Ирис себе. Как только представится возможность, Миранда приедет и заберет ее или пришлет за ней кого-нибудь. До сих пор такой возможности не было. А Хуана ничего не имела против. Она выполнила свою часть договора: Ирис никогда не будет называть ее мамой.
Только через несколько дней после побега Миранды у Хуаны появилось какое-то странное подозрение, и она обнаружила пропажу маминых драгоценностей — дорогого колье, передававшегося по наследству в семье Висенте. Оно стоило гораздо больше моторной лодки. В конце концов Хуане пришлось рассказать Висенте об этой утрате. Он чуть не умер.
Со временем я набрался мужества и стал расспрашивать дальше: получала ли Хуана какие-то вести от Миранды? Да, она получила несколько писем. Миранда вышла замуж. «Что? — возмутился я. — Она замужем за мной!» Нет, по словам Миранды, их брак был принудительно расторгнут. Это происходит автоматически после бегства кого-то из супругов. «А за кого она вышла замуж?» — спросил я. Хуане было известно имя и почти ничего кроме этого. Люк Новак. Работал, конечно, в строительной отрасли. У Хуаны был адрес. Теоретически письмо могло дойти до США, если бы содержание прошло цензуру. Хочу ли я написать ей?
Я думал над этим. «Нет», — ответил я. И больше этот вопрос не поднимался.
Сама же Хуана замуж так и не вышла, несмотря на то что у нее, насколько я понимал, было все, чтобы сделать мужчину счастливым. (Если этим мужчиной был не я. Сам я считал, что потерян для счастья.) «Почему нет?» — спросил я ее однажды. У Хуаны не было связного объяснения. Частично дело в Ирис. Она отнимала много времени. Потом ей надо было ухаживать за папой. И кроме того, у нее были картины.
Хуане исполнилось тридцать два. И что же, все эти годы, так называемые лучшие годы жизни, она была целомудренной? Нет, конечно нет, сказала Хуана и улыбнулась. Но ни разу не случилось ничего серьезного. Мужчины в Гаване… я что, не знал, какие они? Как бабочки. Один цветок соблазнительнее другого. В Гаване слишком много красивых женщин и слишком мало крепко стоящих на ногах мужчин. Слишком много cojones, слишком мало espina[80]. Может быть, лучшие уехали? Хотя Хуана в это и не верила. Просто ей не везло.