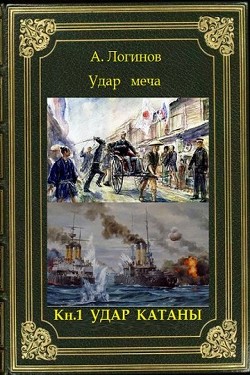Реквием - Элиассон Гирдир
— Да, пожалуйста, — отвечаю я, всей душой радуясь.
Я так и не постиг искусства работать пилой, отец пытался научить меня, но в результате только потерял терпение. Он никак не мог понять, отчего его сын не прирожденный пильщик. Но мне иногда хотелось сочинить мелодию для пилы, на которой играют смычком. Уж тогда бы она у меня запела!
Продавец вынимает рулетку, с профессиональной небрежностью измеряет доски, затем выхватывает из штабеля несколько штакетин и несет их в угол склада, где стоит небольшая циркулярная пила — ждет не дождется, когда ей дадут впиться в дерево. Она зеленого цвета и чем-то напоминает крокодила, побывавшего под прессом для сена.
Один из продавцов заводит мотор, а другой закладывает доски под пилу. Уши наполняются пронзительным визгом, мне что-то приходит в голову, и я тянусь за записной книжкой, но решаю погодить и ничего не писать, пока не выйду. Мне неприятно делать записи, когда другие смотрят. Но у древесины, которую перерезает железо, звук интересный. Раньше я и не замечал, какие возможности этот звук открывает для современных композиторов… Вот я уже и себя композитором назвал — ой, извините, честное слово, я не хотел! Беру свои слова назад. Хватит с меня и «сочинителя мелодий». Они выключают пилу — она снова погружается в дрему без сновидений, подобно крокодилу в болоте, поджидающему очередную жертву.
— Большое же у вас строительство намечается, — говорит словоохотливый продавец, и лицо у него при этом озорное, хотя не насмешливое.
— Андрьес хочет, чтобы к его приезду забор был починен, — небрежно бросаю я.
— Это он правильно хочет, — подхватывает продавец. — Забор надо содержать в порядке, точно так же, как и дом.
Другой смотрит на него с каким-то обожанием, словно внимает великой мудрости.
Купив еще гвозди и краску, я выхожу обратно на солнце, доски несу под мышкой, в другой руке — ведерко с краской. Коробку с гвоздями пристраиваю на крышку ведерка под ручку. Нагруженный таким образом, не спеша иду вверх по склону и, как обычно, никого по пути не встречаю. Сегодня горы небывало сини — как будто их только что покрасили. Я смотрю на ведерко: по-моему, краска в нем именно такого же оттенка. Я собираюсь перекрасить забор в другой цвет.
«Перекрашивать горы — это очень быстро», — думаю я. Вчера вечером, когда я ложился спать, они были не такого колера.
Молоток беру в пристройке. Он очевидно старый — у него головку и рукоятку меняли так часто, что его изначальный возраст не определить. Есть там и ржавая пила. Я прихватываю ее с собой, потому что собираюсь, несмотря на отсутствие умения, обпилить доскам кончики, чтобы они были заостренными, в одном стиле со старыми штакетинами. Мне всегда не давал покоя вопрос: почему сейчас в мирных жилых районах заборы вокруг домов непременно должны быть заостренными? Это потаенное наследие минувших эпох в истории человечества, когда в любой момент могли нагрянуть враги? И наш мозг до сих пор запрограммирован таким образом, в каких-нибудь скрытых складках коры, против соседей и чужих? Значит, острия этих досок на самом деле направлены на меня, потому что я не местный?
Как бы то ни было, отдираю подгнившие штакетины, на новых обпиливаю кончики и прибиваю. Хорошо, что отец не видит, как я управляюсь с инструментами. Если б видел, он бы в своем гробу завертелся волчком. Я бью молотком по пальцам и вообще все делаю как в фильмах с Бастером Китоном. Будь я пианистом — после пары таких ударов стал бы профнепригодным. На целый день превратиться в плотника — это вам не шутка! А целую жизнь плотником я бы и не вынес. Но доски все-таки становятся на место. И сейчас все опять выглядит как маленькая аккуратненькая крепость, в которой закодировано сообщение о том, что проход к дому запрещен. И даже я сам не решаюсь туда направиться — настолько эти новые доски зубасты. Убрав молоток и пилу, я берусь за ведерко с краской. И тут обнаруживаю, что кисть купить забыл. А в пристройке я ее не нахожу: по-моему, в этом доме уже давно ничего не красили. Но тут меня осеняет, и я приношу из кухни посудную щетку, опускаю в ведерко, где ее уже поджидает синева, а потом наношу ею краску на штакетник. Не знаю, многие ли пробовали красить посудной щеткой, но это не так неудобно, как звучит. Правда, щетина у нее совсем жесткая, и от этого краска ложится полосами, гораздо больше, чем от обычной кисти, но, в общем, получается неплохо. Сегодня забор вокруг дома под цвет гор, только завтра горы наверняка будут другого оттенка. Они его вечно меняют, словно женщина, которая пробует то один, то другой оттеночный шампунь, потому что ей никогда не нравится цвет собственных волос.
Если мне когда-нибудь придется рекламировать посудные щетки, непременно упомяну, что ими можно еще и красить.
Управившись с починкой, гордо смотрю на проделанную работу, хотя у меня от нее все пальцы распухли, а два ногтя почернели. К счастью, попал не по той руке, которой пишу: ею я держал молоток. Сажусь с чашкой кофе на солнышке на заднем дворе, открываю записную книжку и начинаю набрасывать. «Этюд для виолончели, пилы и молотка», — пишу я вверху страницы.
Когда в пятницу утром я иду в лесничество (я знаю, что там растет можжевельник), встречаю по дороге черный пикап, на котором ездит начальник местной администрации. Сам он одет в черный костюм, вместе с ним в машине, на передних сиденьях, еще двое, тоже в темном. Я смутно различаю их за тонированными стеклами. Едут на «додже»; этот автомобиль даже я узнаю. Такой был у моего дяди, отцовского брата. С начальником местной администрации я встречался лишь один раз: он разговорился со мной на причале, когда я удил рыбу старой удочкой Андрьеса.
На платформе стоит что-то длинное, укрытое темно-зеленым брезентом. Дорога, ведущая в лесничество, потом тянется еще на несколько километров до аэродрома. И тут я понимаю, что это за груз: тело владельца магазина, скончавшегося в Зальцбурге, доставили самолетом. Мне представляется, как он лежит в этом гробу: усы вычищены, сам он принаряжен. Конечно, он планировал вернуться из своего отпуска иначе, но кто сказал, что жизнь справедлива, и никому не ведомо, где его ждет ночлег. У меня снова возникает смутное ощущение, что мне будет не хватать его в магазине. Когда машина проезжает мимо того места, где я стою на обочине, все трое разом поднимают руки; с пассажирской стороны окошко открыто, и мне видно лучше. Три руки. Двух остальных пассажиров я, хоть убей, не знаю. Начальник администрации сидит за рулем в солнечных очках, хотя солнца нет, а стекла в машине затемнены.
Я провожаю пикап взглядом, смотрю, как колышется брезент и как то, что скрыто под ним, слегка вздрагивает на ухабистой проселочной дороге. Здесь явно прохладнее, чем в Зальцбурге, так что, если разобраться, это место для него даже лучше, достаточно вспомнить, что писал Моцарт в своих письмах. Я помню его письма отцу об этом городе, который он ненавидел больше всех других мест, и решил, что никогда туда не поеду. А сейчас, после встречи с человеком, чья поездка в Зальцбург добром не кончилась, меня туда тем более не тянет.
Но как бы то ни было, мне надо решить, идти ли на похороны, — ведь в магазине непременно вывесят объявление о них, вот тогда и посмотрю…
Лесничество расположено наверху подгорья, над поселком, тянется по небольшим холмам, а посередине там маленькое кристально-голубое озерцо — словно глаз. На информационном стенде у забора написано, что первые деревья здесь были высажены в 1951 году. Сначала участок занимал тридцать пять гектаров, а потом постепенно расширялся, и сейчас площадь посадок занимает целых восемьдесят гектаров. Это не бог весть какая обширная территория, но хоть какая-то. На стенде есть карта тропинок, которую я по привычке тщательно рассматриваю. В этом небольшом лесу проложено на удивление много тропинок; карта напоминает чертеж галактик. Как только я ступаю за калитку, под сень деревьев, мне становится легче. Все города забыты, зелень деревьев снимает все, что накопилось на душе. Неудивительно, что прогулки в рощах официально признаны полезными для здоровья. Как деревьям удается так влиять на человека — другой разговор, это тема сложная. Я чувствую, как это на меня влияет, но совершенно не понимаю принципа действия. Чтобы пить, не обязательно быть искусным пивоваром.