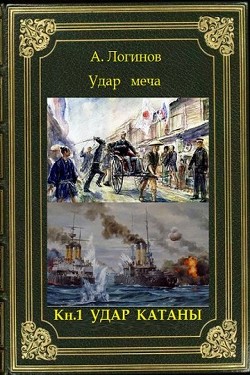Реквием - Элиассон Гирдир
— Надеюсь, его ему вырежут, — говорю я.
— О чем это ты? — не понимает она.
— О том, о чем сказал: что ему эту желчь удалят.
Она не отвечает, но я слышу в телефоне вздох. Потом мы принимаемся обсуждать ее работу — мы вообще обычно говорим о ней. А о моей работе — почти никогда. Порой мне кажется, будто Анна унаследовала от отца определенное отношение к моим занятиям. И с годами это мешает мне все больше. У нас, как говорится, положение разное — сейчас вдобавок и географическое.
Она интересуется, не загляну ли я снова в столицу ненадолго, но я говорю, что хочу просидеть здесь безвылазно до осени.
— А если приедет дядя Андрьес? — спрашивает она.
У меня есть обоснованное подозрение, отвечаю я, что не приедет. Конечно, никакого «обоснованного подозрения» (так полицейские выражаются) у меня нет, просто желание.
— Я так устаю, — говорит она. — Все время только и работаю.
Знаю: у нее аврал.
— Разве не все устают? — отвечаю я.
— Наверное, — отвечает она.
Разговор сходит на нет, пока лучи солнца медленно меркнут на траве за окном гостиной, и эти наши немногочисленные слова — как крошечные звезды на самом краю Солнечной системы. Солнце лишь на миг успевает осветить их, а после они скрываются во мгле и пустоте. Стоило нам закончить разговор — и я тотчас забываю почти все сказанное.
Вечер, погода тиха, небо ясно, лишь чуть-чуть начали собираться облака, ведь лето уже заканчивается. Я гуляю перед сном для поддержания здоровья, дошел уже до самого причала и смотрю на лодки из стеклопластика, стоящие у стальных столбов (деревянного причала уже давно нет, да и деревянных лодок тоже). Море тихо плещет возле их носов. Этот звук очень успокаивает и вызывает у меня разнообразные ассоциации. Я ненадолго присаживаюсь на колени, кладу раскрытую записную книжку на швартовый кнехт и набрасываю несколько нот, а потом продолжаю свою прогулку. По вечерам поселок вымирает — я имею в виду, улицы пустеют, лишь пара-тройка туристов-иностранцев из кемпинга или из так называемого отеля шатаются в поисках развлечений. Конечно, бар в гостинице открыт, но туда, судя по всему, мало кто ходит. Я прохожу мимо низенькой гостиницы, даже не заглядывая в ее двери. Когда возвращаюсь в верхнюю часть поселка, перекрестка за два до дома вдруг замечаю, что в одном из дворов теснится народ — перед огромным домом, видимо капитанским особняком. Оттуда доносится шум и гам и звон бокалов — в буквальном смысле слова. Меня осеняет: как же это напоминает птичий базар, с крошечными отличиями, — такой же гомон. Перед домом множество сверкающих начищенных машин: «БМВ», «Ауди» и другие роскошные марки — я их когда-то рекламировал, но этим мое знакомство с ними исчерпывается. На одном столбе у ворот висит некий плакат, а на нем печатными буквами написано:
ЖЕНУШКА ЛАПУ
ТЕЧКА
С 60-ЛЕТИЕМ!
«Странновато как-то», — проносится у меня в голове; здесь забыли знаки переноса, и это бросается в глаза. Но гораздо больше мое внимание привлекает то, что на столбы малярным скотчем прикреплены кладбищенские свечи. И они вовсю пылают в вечерней тиши. Не знаю, зачем надо было их закреплять: ведь ветра нет. Вопросы вызывает уже то, что на день рождения супруги кто-то взял и смастерил вот такой плакат. Но эти свечки при радостном событии выглядят еще неуместнее. Наверное, здесь кроется что-то фрейдистское: затаенное пожелание смерти жене, потому что в глубине души муж хочет жениться на молоденькой, ведь сам он еще полон сексуальной энергии. Ну, вы же помните Зигмунда.
Я медленно прохожу мимо, до меня доносятся громкие разговоры — если их можно назвать разговорами: сплошные крики и выклики. Затем начинается музыка: она раздается из дома и включена так громко, что у меня закладывает уши. Братья «Би Джиз», «How deep is your love»? Я ускоряю шаг: терпеть не могу этих приторноголосых австралийцев. Но убежать от их голосов так просто не удается: они долетают до меня на следующей улице — да и на второй улице тоже. «Насколько глубока твоя любовь?» Боюсь, не очень, если только речь не о любви к себе. Таково мое поколение: хотя эта музыка и невыносима, ему она соответствует идеально.
Пока у меня в ушах еще звучит песня «Би Джиз», а я изо всех сил пытаюсь от нее отделаться, я рассматриваю забор, который обещал Андрьесу починить. Надо постараться сдержать обещание. Он пустил меня сюда пожить бесплатно, потому что очень любит Анну. И знаю, что он сделал это только потому, что она замолвила слово, ведь меня самого он не особо любит.
Затем я вхожу в дом и прочищаю уши, поставив в проигрыватель Скотта Джоплина — «Кленовый лист», и снова и снова включаю одну и ту же мелодию, пока в голове не остается ни следа от тех сиропных голосов. Смотрю на телефон и вижу, что звонила Анна, но сейчас уже далеко за полночь, и она, скорее всего, спит. Мне совсем не хочется ее будить, ведь она устала от работы, так что я не перезваниваю. Мы завтра созвонимся. Перед сном я прочитываю несколько страниц из дневника Прокофьева. Это интересное чтение, которое будит у меня мысли о том, что мне делать дальше. Эти дневниковые записи относятся в основном к «Пете и волку» — в детстве это было мое любимое музыкальное произведение.
Настало время чинить забор. Андрьес вырос в этом поселке, потому он хочет, чтобы у него здесь было прибежище и там все содержалось в порядке, хотя он сам сейчас редко сюда приезжает. Это можно сравнить с тем, как человек, подверженный приступам страха, постоянно носит с собой валиум, даже если почти не прибегает к нему, — но уже одно осознание, что у него в кармане таблетка, более-менее успокаивает его. Подозреваю, что для Андрьеса этот дом — своеобразный ключ к детству, который так или иначе должен быть у всех. Совсем захлопывать дверь в детство нельзя.
Я захожу в строительный магазинчик, расположенный чуть ниже в порту. Очевидно, он самый маленький из строительных магазинов во всей стране. Там работают двое — в голубых халатах, седые, с официальными выражениями лиц, явно старой закалки. Внешность у них примечательная: оба малорослые, вероятно, братья, наверное, даже и близнецы, а может, седина и халаты просто усиливают сходство, а на самом деле оно не столь велико.
Я сообщаю им, что мне нужны доски, гвозди и краска. Материалы из пристройки, которые предлагал мне Андрьес, время не пощадило. Доски подгнили, краска засохла комками, гвозди заржавели. Ведь это все годами хранилось в неотапливаемом помещении. А я куплю все новое, но Андрьесу не скажу. Ведь я ему обязан.
— Ты живешь в доме Дрьеси? — задает мне вопрос один из продавцов, пока второй стоит рядом и слушает.
— Да, — отвечаю я.
— Мы с ним вместе играли, когда были маленькими, — говорит он.
«Да вы и сейчас маленькие», — чуть не вырвалось у меня, но мне удалось задушить эту фразу в зародыше.
— Вы братья? — спрашиваю я, попеременно переводя взгляд на каждого из них.
Один начинает смеяться, другой даже не улыбается.
— Нет, мы даже и не родня, насколько мне известно. Всего лишь товарищи по играм. Неместные нас постоянно об этом спрашивают.
Он проводит меня в заднюю, складскую, часть помещения, второй следует за нами в сумрак. Судя по всему, ему просто больше нечего делать, ведь других покупателей в магазине нет.
На складе лежат штабеля досок, тротуарной плитки и всяких других предметов, до самого потолка. Просто удивительно, сколько всего влезает в эту пристройку, хотя она и невелика. Между штабелями проходы столь узенькие, что в них едва можно протиснуться. Окон здесь нет, горит тусклая лампочка — никудышное освещение для работы.
Мы останавливаемся у штабеля штакетника; ноздри наполняет запах древесины. Я делаю глубокий вдох. Это всегда напоминает мне об отце, он был плотником, а я ни капельки не унаследовал из его мастерства — умею мастерить только мелодии.
— Вам их напилить? — спрашивает тот, кто со мной разговаривал. Второй по-прежнему молчит, его лицо неподвижно застыло. Если б халат не был синим, весь продавец казался бы вырезанным из черно-белого немого кино.