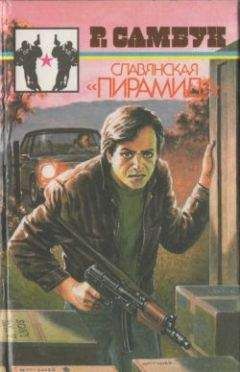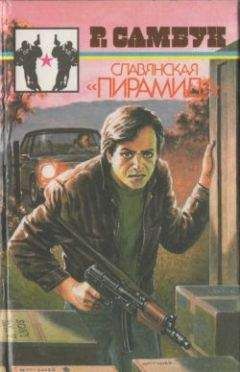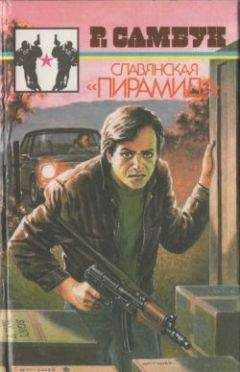Феликс убил Лару - Липскеров Дмитрий Михайлович
– Будут у нас пчелы, – уперся Протасов. Его лысая, вся во вмятинах круглая голова покраснела на солнце. – Если пасеку восстановим – это поболее будет, чем женьшень твой!
– И откуда знаешь, что у меня корешки?
– Вселенная доложила!
– Дерзкий ты, Олежа! – Умей разглядывал, как ест Абаз, и вспоминал себя, каким был лет двадцать назад. Всегда жрать хотел, думал только о еде. – А все потому, что по войнам нашлялся! Война человека хитрым и злым делает. И дерзким… Кока-колы принеси! – крикнул охраннику.
– У тебя тоже войны здесь предостаточно было. Ты тоже злой и дерзкий… Я золото нашел там, где и никто не подозревал. Даже бельгийские геологи обосрались.
– Нравишься ты мне, Протасов, за прямоту. Когданибудь из-за нее погибнешь.
– Давай не сегодня. – Протасов достал из кармана платок и вытер обритую, помятую, всю в шрамах голову. – Поможешь?
– Найдете пчел: мне восемьдесят процентов – вам двадцать.
– Пятьдесят на пятьдесят.
– Борзеешь, капитан Советской армии!.. А на кого вокзал оставишь? Ты им уже лет восемь управляешь?
– Девять… Жена лучше меня все знает.
– Да, – согласился Умей. – Ольга женщина серьезная. Я помню, как она рассчитывалась со мной за вокзал самородками. Взять золотишка мог просто так, ты знаешь, и – камнем по затылку. Но что-то в ней было такое… – Умей коротко отправился в прошлое, отчего лицо его сделалось почти человеческим.
– Это моя жена, – напомнил Протасов.
– Эх, Олежа… Живи со своей русской женой, радуйся. Мне с русской не по понятиям. Не простят. Да и девять лет назад это было… Я к молоденьким привык!
– Так что, договорились?
– Тебе верю, – согласился Умей и, звучно рыгнув газами от кока-колы, утер рот. – Мне бы эти газы – да в мою трубу к казахам. Я и из другого места могу газануть! – и заржал так громко, что хозяин-таджик, старенький, со слабыми сфинктерами в теле, пару капель из крана выпустил. – Езжайте, дам вам подорожную! Все будет чики-пики! Но смотри, Олежа, Умея еще никто не кидал! – Встал из-за стола, потрепал Абаза по волосам, затем больно ущипнул за мочку уха. Молодой человек чуть было не подавился маринованным чесноком и произнес что-то грубое, нечленораздельное.
– Ты тоже дерзкий! – констатировал авторитет. – Мне нравится. Может, и срастется что-то. – Хотя в пчел он вообще не верил.
И поехали Протасов с Абазом в аул. Олег – на своем Коньке, а Абаз подле – на старом ослике Урюке. Как, спрашивается, они понимали друг друга и общались? Абаз подвывал нечленораздельно, а Протасов в том же роде отвечал.
– Иэфоуи?
– Иименоууу…
Если перевести с ангельского на человеческий, то Абаз спрашивал Протасова, как звать его коня.
– Горбунок.
– Старый конь.
– Так и твой осел в последнем своем пути.
Вечерело. Пели свои прощальные на сегодня песни птицы, и Абаз подпевал – чисто и красиво.
– Хочешь, полетим? – спросил Протасов Абаза. – А то месяц ехать.
Абаз ничуть не удивился такому предложению:
– А твой конь еще может?
Протасов улыбнулся, показав свою настоящую улыбку, будто радостный трехлетний ребенок – счастливый, еще не живший внешним миром.
– Может, он еще и твоего осла научит.
Горбунок и Урюк потерлись губами об уши друг друга, затем разбежались, кто как мог – да и полетели в ночное небо. И еще долго из-под луны степи слушали звонкий смех Абаза, и осел от ужаса кричал «Иа!».
5.
Абрам Моисеевич Фельдман, накрепко обхвативший еловый ствол, продолжал дискуссию с голодными до крови шляхтичами.
– Измерим солнце в евреях! – возвестил глава охоты. – Один луч – один еврей!
– Так у вас скоро вечная ночь наступит! – предупредил Фельдман. – Евреев гораздо меньше, чем солнечных лучей!
– «Дух пущи» важней, чем солнце! – возвестил подпитый Анджей, но тотчас получил стеком по розовой молодецкой щеке.
– Заткнись! – приказал Каминский.
– Может, компромисс отыщем? – предложил Абрам. – Жалко солнце…
– И что ты, еврей, предлагаешь?
– Чтобы не смеялись над вами…
– Э-э! – возмутился кто-то из охотников. – Кто смеятьсято будет?
– Так погром из одного еврея не погром! – вещал изпод еловой кроны Фельдман. – Хотели хряков настрелять – а убили одного жидочка маленького. Смех, да и только.
Ян Каминский, собравшийся свататься к дочери генерала Вишневского, подумал, что вся сия история, как ни подноси ее, не будет выглядеть изысканным приключением. Доблести не прибавит – скорее, может сыграть плохую шутку.
– Так что предлагаешь, Абрам Моисеевич?
– Отпустить меня!
– Так уж и отпустить?
– Дождаться времени, когда нас больше попадется, и тогда погром – настоящий еврейский погром! Вам зачтется!
Каминский задумался, а потом вынес приговор:
– Высечем мы тебя, Абрам Моисеевич! Одного еврея убить – никто не заметит! А так посечем, чтобы из-под штанин кровушка текла. И все в Кшиштофе увидят, что есть еще дружина, контролирующая польские территории…
– Слезаю, – предупредил Фельдман и по-обезьяньи ловко спустился по стволу на землю. Вновь завыли собаки, затявкали неудовлетворенно… Абрам отряхнулся, поправил бейсболку на голове и стал морально готовиться к мукам.
– А ты не такой тщедушный! – заметил Каминский. – И мышцы есть… Сколько росту в тебе?
– Так под два метра.
– Одному сечь тебя – только здоровье тратить, – Ян Каминский кивнул Анджею. – Возьми четверых, устраивайте его на той осине, что вроде бы недавно упала. Вяжите крепче.
Пока его устраивали на стволе дерева, вязали накрепко руки и ноги, Абрам неистово молился, прося Всевышнего оставить ему жизнь, чтобы дойти в Кшиштоф для Меньяна4. Ему ли не знать, что польская кровь при виде чужой возбуждается как подросток на тетушку в неглиже в вечернем окне флигеля. И там, где собираются пороть – мозги плавятся от желания насильничать… Да и без всякого Кшиштофа и Меньяна жить хотелось очень. Он вспомнил сон о Рахили, ровно за мгновение до того, как первый удар хлыста взорвал на его спине бледную кожу… И вновь на весь лес завопили собаки, учуяв теплую пахучую кровь. Потом был и второй удар, и третий. Били умело – перекрестно, с нахлыстами.
Пан Каминский прихлебывал из фляги и с сам с собой спорил, на каком же ударе завопит поганый жид. Но Фельдман лишь охал, а Ян вдруг подумал: окажись он на месте еврея – сколько бы продержался? Эта мысль заставила его рефлекторно выкрикнуть:
– Достаточно!
В эту секунду кто-то заорал:
– Кабан пошел, кабан!
– Не было бы еврея, не было бы и кабана! – расхохотался Ян Каминский, перерезал веревки на руках и ногах Фельдмана, бросил ему флягу с «Духом пущи» и баночку с крышечкой. – Здоров терпеть ты, Абрам Моисеевич. – Это, – он ковырнул банку мыском сапога, – барсучья струя. Помажешь – затянет в два счета, а во фляге – сам знаешь что… – Когда, ты говоришь, соберется много евреев?
– Уже собрались, – просипел Фельдман, с трудом удерживая сознание.
– И где же?
– В Израиле, Всевышний определил нам.
Каменский опустился к самому уху подвергшегося экзекуции:
– Абрашка, ну какого рожна ты всюду лезешь?! Я тебя знаю со своих пяти лет. Дружили же, как братья были… Если тебя побрить и одеть в цивильное – за пана сойдешь! А документы я тебе предлагал сделать – ты отказался. Чего в жидах ходить? – Каминский отвинтил крышку фляги и влил в рот Фельдману треть содержимого.
– Спасибо тебе, Янчик, что не убил…
Фельдман ощутил в теле прилив эндорфинов и был благодарен бывшему товарищу.
Ох уж этот стокгольмский синдром…
Здесь собачий лай достиг предела, раздались выстрелы, и пан Каминский, гонимый охотничьим азартом, исчез в кустах, оставив после себя едва уловимый запах духов, снятый ранним утром с прекрасной шеи генеральской дочери.
Фельдман пролежал рядом с осиной до обеденного времени, пока не смог пошевелиться. Пригодилась барсучья струя. Она почти мгновенно снимала боль со взорванной хлыстами кожи, стягивая раны. Допил из фляги, неторопливо поднялся на ноги и, вознеся хвалу Всевышнему за спасение, принялся одеваться.