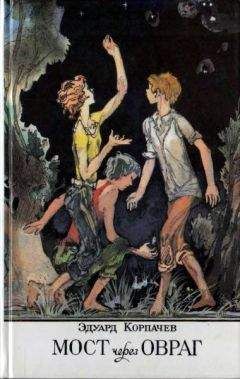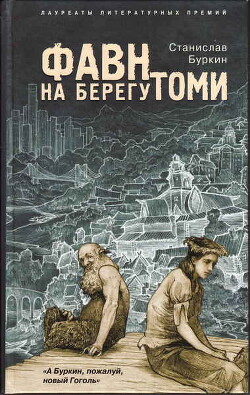До свидания, Сима - Буркин Станислав Юльевич
Я увидел две очень яркие красные руки и напряженные тонкие пальчики, вцепившиеся в ломкий край льда. На пару секунд ее голова выныривала с широко раскрытым ртом, тогда край обламывался, и она, не успевая глотнуть воздуха, снова проваливалась, и ее судорожные пальцы опять чудом цеплялись за край. Потом она снова появлялась, но край ломался, и течение неумолимо влекло ее за собой. Маленькая голова выныривала, гладкая и блестящая. Черная вода в легком пару густо качалась и, поблескивая, вставала горбиками. Лед кругом хрустел и дробно потрескивал. Доносившиеся до меня звуки казались незначительными. Можно было решить, что кто-то просто дурачится. Я подумал, что Сима не может умереть, так как это (так же как ее полное имя) плохо, точнее, вовсе не сочетается с ее несерьезным образом.
И вот она все показывалась и цеплялась с какой-то бессмысленной добросовестностью, а я стоял и тупо смотрел, словно стараясь сфотографировать в памяти все это дикое и невообразимое. Как, знаете, когда смотришь на что-то навсегда уходящее, стараясь увидеть его таким, каким будешь вспоминать потом. Смотрел на лоснящееся от воды лицо, слегка розовое, неожиданно черные, облегающие голову гладкие волосы и бледные губы, и голый выпуклый лоб, цепкие тонкие пальчики. Я знал, что мне стоит только до нее дотронуться, как она смертельно в меня вцепится и утащит навсегда в свое страшное свинцовое царство.
Когда она в очередной раз вынырнула, лед, словно не желая простить мой испуг и неопытность, промолчал и, лишь слегка скрипнув, удержал ее. Она застыла с неестественно широко раскрытыми глазами и судорожно, словно рыба на песке, пыталась сделать глоток воздуха.
Первые секунды длилось зловещее безмолвие. Потом я услышал, как она, давясь, дважды кашлянула и проглотила немного воздуха. Шипя от напряжения, она тихо и раздельно произнесла чужим низким голосом:
— Брось мне куртку! Выта…
Она задохнулась и не смогла досказать, но потом снова глотнула воздуха:
— Не стой, дурак! Сними куртку!
В глазах у нее теперь была бессмысленная рассеянность, губы плотно сжимались после каждого произнесенного слова. И все человеческое во мне кричало: «Сделай что-нибудь!» А бесовское властно повелевало: «Не дыши и не двигайся». И я не хотел, а повиновался последнему.
Она замерла и посмотрела на меня с осмысленной строгостью. В ответ на это я повернулся к бесконечно далекому веселью и тихо добросовестно позвал на помощь. Не знаю, кого я обманывал.
За лед она держалась теперь не пальцами, а подбородком, растопыренной кистью и целым предплечьем. Внезапно лед под ней лопнул двумя большими пластами, и она молча исчезла между этими покачивающимися свинцовыми крыльями.
Я моргал и не мог поверить, что это конец и что вот уже над черной смеющейся поверхностью воды окончательно сомкнулся колышущийся занавес. Вода уже успокаивалась и, играя обломками льда, завивалась и текла в одну сторону.
«Не уходи», — промелькнула в уме обычная грустная фраза, которую я говорил про себя в тысяче других случаев, когда она хоть ненадолго оставляла меня. «До свидания, Симочка! До свидания, моя милая!»
Я аккуратно сел на лед и закрылся рукой от ямы и от всего неотвратимого, всего настоящего и страшного. Секунд через двадцать или двести медленно подкатились два больших человека на прямых, словно деревянных, ногах и замерли на большом от меня расстоянии. Лица у них были как в театре пантомимы, белые, с румянцем и совершенно одинаковые. Они жестами, чуть подавшись вперед, с мольбой на лицах подзывали меня к себе. Но я плакал и не хотел слушать их.
Когда слух вернулся ко мне, на месте двух возникла уже целая компания, и первые два, расставляя руки, никому не позволяли подойти ко мне. Женщины галдели как на базаре и препирались с мужчинами. Казалось, вот-вот расплачутся. Я лег на жесткий студеный лед, вытянувшись во весь рост, зажмурился, нос у меня тут же горько заложило, и я широко раскрыл рот. Падали редкие мелкие и колкие снежинки. Они липли под носом к верхней губе, превращались в щекочущую влагу, холодившую веки и остужавшую слезы, прохладно скользившие по вискам.
Мне кажется, я никогда не прощу себе. Ни того, что я тогда ничего не смог сделать, ни того, что пишу это. Ведь я так любил и люблю ее. И с ней ушло столько всего моего. Словно внезапно оборвавшаяся мелодия, словно лопнувшая кинолента. Прости меня! Но я все равно обязательно напишу обо всем этом. Потому что иначе твоя черная вода однажды захлестнет меня, и я никогда из нее не выберусь.
Хотя иногда этот страх оставляет меня, кажется навсегда исчезнувшим, и тогда я представляю себе, как прыгаю за тобой, захлебываюсь в твоих объятиях и навсегда остаюсь в твоем медлительном подледном царстве, где ты, безучастно замерев, как зачарованная, увлекаешься молчаливым течением. И когда я сознательно представляю это, страх подолгу не возвращается. И это даже хорошо, что тебя не нашли и по весне ты сможешь всплыть в какой-нибудь чирикающей глуши из ослепительной солнечной мути, где вьются пчелы над травами, блестят паутинки и бесшумно порхают белые весенние бабочки.
Глава вторая
Любовники нашей бабушки
1
Глупо рассказывать теперь, в каком я был шоке, и как это все отразилось на мне и на всей семье, и что было в первые дни. Все и так понятно. Дом погрузился в траурное безмолвие. Мой мир был расщеплен. Прежние поиски в дебрях дома, в завалах книг, покрытых пылью и плесенью, вызывали у меня отвращение. Как только появлялась мысль о чердаке, сразу же приходил образ дохлой крысы, найденной на дне сундука. Я чуял присутствие этой крысы в каждой комнате. Вечера без Симы осиротели. Я так привык к ней, к ее голосу, что родной дом без нее был мне странен. Но в то же время казалось, Сима вот-вот войдет и запросто, конечно, какой-нибудь гадостью, рассеет все мои видения и отчаяния. Я по-прежнему живо любил и ненавидел все ее штуки.
Пару недель я не мог прийти в себя. Первые дни даже не мог спать один и перебрался с раскладушкой к бабушке. В школу опять не ходил — новые пропуски списали на ту же корь и повели в халупу через дорогу отливать воском к какой-то сухой старухе. Правда, потом один священник надавал маме по ушам за это бесовское предприятие. Да мне и самому, честно говоря, не понравилось. Когда поняли, что отливание не помогло, повели к психиатру.
— Уэл, уэл, уэл, Александр Васильевич, — говорит мне пожилой врач, не глядя на меня, а листая какие-то бумажечки (возможно, мою легендарную автобиографическую историю болезни). — Давайте займемся вашим случаем. — И только тут поднимает сонливый взгляд, вздыхает, мнет и переплетает пальцы решеточкой.
Весь какой-то долговязый, лысый, изломанный, в огромных выпуклых очках, делающих его похожим на филина. Пальцы длинные, костистые, ломкие, он играет ими, то выгибая, то силясь дотронуться средним пальцем до предплечья, словно желая показать вам, какое он все-таки удивительное чудовище.
— Давайте рассказывайте мне свои приключения.
«Я что тебе, сказителем нанялся, гундосый козел?» — подумал я, но не сказал, так как на кушетке, хоть раньше я и думал, что беседы с психиатром проходят исключительно конфиденциально, сидела мама, и мне пришлось как-то выкручиваться.
— Видите ли, у меня умерла тетушка.
— Что вы, совсем-совсем? — спрашивает доктор взволнованно и озадаченно. Короче, уже тут я понял, что ему самому диагноз пора устанавливать.
— Под лед провалилась на глазах у нашего мальчика, — подсказывает мама сзади. — Сестра моя младшая.
— Замечательно, — говорит доктор и чмокает ртом над бумажками. — Что же поделаешь? Психологическая травма. А как себя сейчас чувствуете? Что-нибудь беспокоит?
— В смысле? — спрашиваю.
— Ну, вообще, что-нибудь беспокоит?
— Здоровье родителей, — говорю.
— Восхитительно. А что конкретно вас беспокоит в здоровье родителей?
— Ну, чтобы не болели. Жили долго. Чтобы наших с Лизкой детей увидели.
— А что у вас с Лизкой? — внезапно оживился доктор.