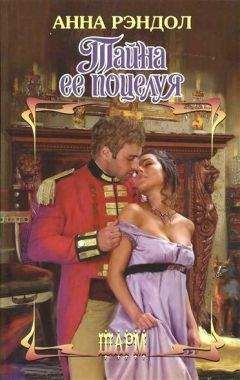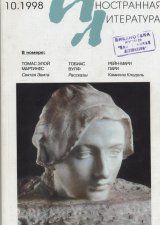Метель - Вентрас Мари
Коул
Что же я все топаю по этой мешанине? Они мне не семья, у меня нет семьи, и я очень этому рад. Я никогда не хотел связываться с бабой, а раз без бабы детей не заведешь, то и детей у меня нет. От баб одни заморочки. Вечно чем-то недовольны. Будто Господь специально их как-то слепил, чтобы больше нас доставали. Теперь вдобавок им подавай все наравне с мужиками: и работу, зарплату, и права такие же, словно разницы между нами никакой нет. А ведь видно невооруженным глазом: они устроены не так, как мы. Слабые они, вечно ноют, где им понять, что такое настоящая мужская дружба. Клиффорд слышал от туристов, что в некоторых странах Европы они даже требуют, чтобы теперь им говорили только «мадам», а ни в коем случае не «мадемуазель», чтобы, значит, ко всем относились с почтением, как к замужним женщинам. Мы с Клиффордом так смеялись. Там бабы такие же сумасшедшие, как и здесь. Хоть замужняя, хоть незамужняя — от бабы всегда одни неприятности. Разница лишь в том, что в первом случае хотя бы мужик может напомнить ей, кого Бог сотворил первым, а кого вторым. Я говорю о настоящем мужике, а не о всяких там битниках и придурках, которые рассуждают про разные чувства или, того хуже, говорят, что женщина будто бы ровня мужчине. Чего только не услышишь. Даже и не знаю, к какой категории теперь отнести Бенедикта, а ведь я знаю его с детства. Его отец дал мне шанс, взял меня к себе в помощники, хотя я был не местный, и в перспективе уже маячило закрытие лесопилки, а другой работы тут и не найти. Он не стал мне врать, все прямо сразу выложил начистоту. Что работа тяжелая и неблагодарная, зарплата небольшая, никаких перспектив. Я все равно остался, не уехал даже и тогда, когда перестали работать последние машины, когда их разобрали, чтобы увезти куда-то еще, в другой лес, когда уехал последний лесоруб и земля вокруг бараков заросла бурьяном. Идти мне было некуда, а тут вполне можно прожить. Просто надо было держаться рядом с Магнусом. Даже у его тени человек мог многому научиться. При таком отце Бенедикт вырос настоящим мужчиной, по крайней мере, я раньше так считал. Теперь, как появилась эта ведьма в юбке, я его едва узнаю. Ведет себя как дебил. Глаз на нее не поднимет, не стукнет кулаком по столу! А она знай прыгает обезьяной по гостиной под свою кретинскую музыку, словно бес в нее вселился. И вот теперь он отправился искать ее, когда все, что этой кривляке нужно, так это хороший заряд дроби в лодыжку — нечего здесь вилять задом. Если найдем ее живой, может, и не удержусь: выстрелю. Бенедикт найдет другую бабенку, чтоб заботиться о мальце. Может, повезет и хоть эта будет знать свое место.
Бенедикт
Я приехал на автовокзал Нью-Йорка в конце августа 2005 года, с сорока мятыми долларами в кармане, пятью копчеными сосисками и тремя круглыми булочками, которые вермонтские Майер-Крейвены запихнули мне в рюкзак перед отъездом. Пиво я брать не стал, но поблагодарил. Я не то чтобы трезвенник, в отличие от Томаса, который никогда не брал в рот ни капли спиртного, но просто не хотел рисковать, вдруг засну и вещи украдут во время поездки. Задним числом я думаю, что зря боялся: у меня, если честно, и красть было нечего, но я, можно сказать, попал из огня в полымя, из почти необитаемой зоны страны в те края, где все жили так скученно, что казалось, покоя нет и не будет. Я вышел из автобуса, от жары перехватило горло. Мне встречались высокие температуры в Калифорнии, Техасе и везде по моему маршруту. Но в тот день это была жара плавящегося города, асфальт прилипал к подошвам, как жвачка. Пекло, которое изжаривает тебя на месте и не оставляет в горле ни капли слюны. Плюс усталость от долгого пути. Я не понимал, как люди это выдерживают, но все вокруг как будто не осознавали, что это ненормально для человека — жить в таком городе как под стеклянным колпаком, когда солнечные лучи отражаются от фасадов зданий и добавляют жару. Мне удалось найти метро и каким-то образом поехать по правильной линии в нужном направлении. У меня были только фамилия и адрес, и я отправился туда, решив, что дальше никуда не пойду, даже если не найду там ничего. Я проехал всю страну с запада на восток, куда мне было ехать дальше, тут начинался незнакомый мне океан. В метро люди старались не смотреть на меня или отодвигались, обходили меня. Давно не бритый и не стриженный, весь заросший, с потертым рюкзаком на плече, я, должно быть, казался им опасным. Видимо, они принимали меня за одного из тех парней, что живут на улице, совершенно одичав, и в чем-то они были правы: я стал немного таким, как эти бедолаги. Я уже не походил на прежнего Бенедикта, сына Магнуса и Мод Майер, я был каким-то пропащим парнем, явившимся из пропащего угла неизвестно куда и неизвестно зачем. Я не мог винить их, я отупел от бесконечных и долгих переездов, от необходимости все время двигаться вперед, по натуре я совершенно другой человек, я домосед, и мой дом — на Аляске. Выйдя из метро, я какое-то время бродил вокруг да около, прежде чем нашел адрес; люди торопливо уходили, не отвечая мне, когда я спрашивал дорогу. В конце концов я нашел нужное здание, но не мог решиться позвонить в дверь. Это был мой последний шанс найти его, вернуть домой или вернуться назад одному. Я сел против дома, на земле, возле деревца, такого хилого по сравнению с теми, что обрамляли мой собственный дом, что мне стало почти смешно. Я съел две колбаски и хлебец, мне хотелось пить, но двигаться не хотелось. Я задремал и, кажется, выглядел именно тем, кем воображали меня люди в метро. Конченый человек, у которого не хватит денег, чтобы снова встать на рельсы. Когда я проснулся, солнце уже скрылось за домами, жара и духота чуть спали, зато подул легкий ветерок — единственный знак милости и приветствия мне со стороны города. Я встал, кое-как пригладил бороду, причесал волосы и завязал их хвостом и пошел звонить в домофон. Через некоторое время мне ответил женский голос. Я сказал, что меня зовут Бенедикт, что я брат Томаса Майера и пришел для того, чтобы вернуть его к родителям. Последовала долгая пауза, а затем дверь здания открылась, и одновременно мне сказали подняться на третий этаж.
Когда я вышел на ее площадку, она уже ждала на пороге. Она стояла босиком, в просторной майке, надетой наспех и даже не заправленной в джинсы, и огненно-рыжие волосы пламенем стояли вокруг головы. Я сразу подумал, что он, должно быть, сильно любил ее, и ощутил укол ревности: почему если он старший, то все хорошее достается ему первому? Она смотрела с тем недоуменным, как бы оглушенным выражением лица, которое у нее появлялось бессознательно, когда она глубоко задумывалась, она смотрела мне в лицо и словно искала там ответ на какие-то свои вопросы, и потом наконец с обезоруживающей улыбкой сказала: «Так, значит, ты и есть Бенедикт? Долго же тебе пришлось сюда добираться». Я не знал, достиг ли я цели пути, мне просто хотелось скинуть рюкзак и передохнуть — там, где живет Томас. Или когда-то жил.
Фриман
Ветер дует уже не так сильно, как раньше. Так-то лучше. Мне здесь делать нечего, и это еще слабо сказано. Я должен быть за тысячи миль отсюда и расплачиваться за содеянное. Посылая меня сюда, она заявила, что это мне будет некой карой; конечно, она так сказала, потому что это было ей на руку, но в результате оказалась почти права. Наверно, она по себе знает, что такое кара и муки совести. Я остался наедине со своим позором, наедине с воспоминаниями, такими же четкими, как и в первый день. Наедине с болью, острой как лезвие, и большую часть времени меня здесь от нее ничто не отвлекает. Мальчик по такой погоде не придет меня проведать. Я догадываюсь, что он ходит в гости главным образом к Корнелии: возиться с собакой ребенку всегда интересней, чем общаться со стариком. В его возрасте я тоже любил животных, но о том, чтобы завести кого-нибудь, не могло быть и речи. Для матери лишний рот. В качестве отвлечения она каждое воскресенье таскала меня в церковь, а после уроков заставляла проведывать стариков, еще более дряхлых, чем я теперь, с такими волосатыми ушами, что я больше всего боялся стать таким, как они. Я всю свою жизнь старательно выполнял наказы матери и заповеди Божьи, которые по сути и не различались. Даже сдав экзамен в полицию и поступив на первую должность в Майами, где другие копы, жалея о временах, когда чернокожий мог войти в полицейский участок только в наручниках, лезли ко мне в печенки, даже тогда я, несмотря ни на что, сохранил и самообладание, и веру. Я не испытывал к ним ненависти, что толку, такими их воспитали. И большинство из них не прошли Вьетнам или воевали, но не в таких условиях. Хотя мой капитан пережил эту чертову войну так же, как и я. Он знал, что мы принадлежим к особому клубу, мы из тех, кто не спит по ночам, кто смотрит на жертву субботней потасовки и бессознательно ищет сходства его огнестрельных ранений с отверстиями от калашникова, и прикидывает, погиб ли парень мгновенно или успел увидеть, как кишки вываливаются из живота, и пытался запихать их внутрь прежде, чем сделать свой последний вдох. В этом городе я нашел лишь облегченную версию того же насилия и страха, которые испытывал много лет назад, когда был еще молодым. Словно неудачная, блеклая имитация пережитого прежде. Я отделался легче большинства других. Я не топил тоску в алкоголе, я не лишался чувств при виде изуродованного трупа, не пасовал, когда нужно было объявить родным о смерти, ни разу не вышел из себя, когда женщина била меня кулаками в грудь со всем гневом, на который способна женщина, потерявшая мужчину, когда ее горе не смягчить никакими словами. Все это только возвращало меня к моим воспоминаниям, к родителям Сэмюэля Ульмана, одного из редких моих настоящих друзей во Вьетнаме, — я привез им в Квинс вместо сына одну его солдатскую бляху. И как мать гладила этот искореженный кусок металла, подносила его к губам, плакала над этой железкой длиной с зажигалку и толщиной меньше билетика в метро. То было единственное, что осталось от ее мальчика, что не покидало его до самой его смерти. Она обняла меня так, как могут обнять только матери, и я почувствовал себя жуликом, вором, потому что я уцелел. Сегодня я тоже на посту. Я слежу, я охраняю живого человека, и я сдержу данное слово. А потом пусть Бог насылает на меня все бури в мире, я не стану сопротивляться, я и так слишком устал.